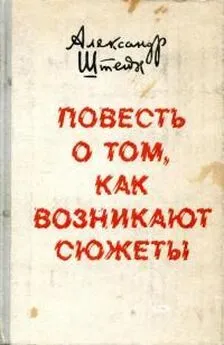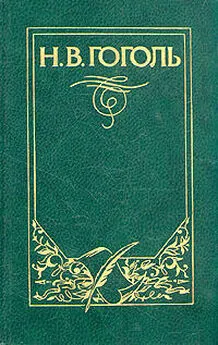Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты
- Название:Повесть о том, как возникают сюжеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Штейн - Повесть о том, как возникают сюжеты краткое содержание
В этой книге читатель встретит, как писал однажды А. Штейн, «сюжеты, подсказанные жизнью, и жизнь, подсказывающую сюжеты, сюжеты состоявшиеся и несостоявшиеся, и размышления о судьбах сценических героев моих пьес и пьес моих товарищей, и путешествия, и размышления о судьбах моего поколения…».
О жанре своей книги сам автор сказал: «Написал не мемуары, не дневники, не новеллы, но и то, и другое, и третье…»
Повесть о том, как возникают сюжеты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Без купюр и широко стали играть пьесу после революции…
Под небом юности…Забудется ли неземное очарование этих далеких театральных вечеров под открытым небом? Память о подсвеченных снизу керосиновыми плошками бутафорских Воробьевых горах, воздвигнутых из фанерной тары все той же чаеразвесочной фирмы Высоцкого с сыновьями, исчезнет ли?
Едва оправившись от удара, нанесенного драмой Оль-Оль, я тотчас же был захвачен в полон свободолюбивыми шиллеровскими «Разбойниками».
Понимаю, почему Достоевский читал своим детям, — а самому Достоевскому уже было немало лет, дети родились у него поздно, — читал именно Шиллера и именно «Разбойников»!
Дети, разумеется, не понимали, что им читает папа, хотя Достоевский так старался!
Гениальная наивность…
Но не только Достоевского — Шиллера…
После спектакля «Разбойники» последовал «Вильгельм Телль».
«Нет, есть предел насилию тиранов! И если все испробованы средства, тогда разящий остается меч!»
Эту шиллеровскую строфу повторял я бессчетно, когда началось решающее сражение с эмиром бухарским. Все было созвучно умонастроениям поколения в драматической поэзии эпохи «бури и натиска»: и ее бунтарская крылатость, и ее тенденциозность однозначно-простодушная, и ее юношеский порыв — оттого и оставила она след в наших душах — нестираемый.
Из-за военно-осадного положения спектакли начинались до смешного рано. Публике должно было поспеть домой загодя, иначе — ночевка в крепости или в Чека. Жара спадала. Туркестанская ночь с ее божественной бархатной прохладой обнимала нас в третьем акте. Звезды сияли над нами недвижно, словно бы навсегда вправленные в небесный темный купол. Их свет фантастически сочетался с отражениями керосиновых плошек. Это придавало таинственность и сцене и нам самим, сидевшим на некрашеных деревянных скамейках, сдерживающим учащенное дыхание. В тишине этих ночей мы слышали стук сердец друг друга не фигурально, а буквально. Тут нет нисколько художественного преувеличения! В это лето провинциальная труппа привила мне навсегда вкус к театральному искусству, и, возвращаясь пыльной улицей после спектакля, я глядел на недвижные звезды в небе, ставшем в разгар ночи совсем черным, потрясенный навсегда загадочной, в сущности, потусторонней силой театра.
В труппе остро недоставало статистов, революционные драмы писались в старину весьма неэкономно, однако театр, с достойным похвалы безумством, ставил многоплановые спектакли, даже лопедевеговскую «Фуэнте Овехуна» — на то он и был театр героической романтики и романтической драмы! Помреж, приметив двух мальчиков, ставших театральными фанатиками, — мы не пропускали ни одного представления! — пригласил нас играть… толпу! Завербовав еще несколько мальчиков и девочек из нашей школы второй ступени, дрожа от восторга, нетерпения, явились мы на утреннюю репетицию.
Закулисная жизнь неприятно ошеломила. Небритый режиссер, в сбитых шлепанцах, в пропотевшей гимнастерке, в грязной тюбетейке, прикрывавшей лысую макушку, скачущий через неубранные с вечера декорации, резкая его перебранка с рабочими сцены, артисты, истомленные жарой, огнедышащие реплики шиллеровские талдычившие равнодушно, словно бы в школе на постылом уроке, тихонько, а то и громко переругиваясь с режиссером. И — громкий шепот меж репликами о том, что сто́ит черный кишмиш на базаре около мечети Биби-ханум и где дешевле купить дыни-гуляби… Этот шепот просто-таки нас оскорбил! Тем паче что перешептывался со своим, по сцене, заклятым врагом не кто иной, как сам Карл Моор, любимый идейный разбойник.
Я отгонял мысленно, как злых, кусачих мух, всю эту заземляющую повседневщину предвкушением ночи, когда волшебные плошки и звезды небесные изменят все и вновь вернется чудо театра.
Наконец пришел желанный час, когда позволено тебе, робкому провинциальному мальчику, не только созерцать волшебство из глубин зрительного зала, но вершить его самому. Ты перестаешь быть самим собой, не только шип помрежа зовет тебя на сцену, но какая-то высшая сила, и ты часть великого, вечного действа, и не на сцене в парке, в бывшем саду Дворянского собрания, а где-то в греческом Эпидавре, в античном Городе Искусств.
Человеку всегда мало того, что отпущено ему тороватой судьбой: только-только привыкнув к подмосткам, по-прежнему до трясу пугаясь внезапной пропасти зрительного зала, разверзшейся пред тобой, едва ты вытолкнулся на сцену, я стал испытывать недоброе чувство к коллегам-школьникам. То ли не импонировал помрежу мой убогий росток, то ли удалось ему поставить верный и безнадежный диагноз моей актерской способности, но я на сцене безмолвствовал. Девочка из моего класса, смутившая первым, неосознанным пока предчувствием первой любви, пришла в театр, и я разглядел, в седьмом ряду с краю, ее прелестный рот в насмешливой улыбке, — пять действий она наблюдала, как я торчу на сцене без единого слова!
Пришел описанный бессчетно, счастливый и банальный случай — когда заболеет премьер! И он заболел, ура, свалила Карла Моора тропическая малярия!
Согласно всем традиционным канонам, я уже был готов выручить театр — все монологи Карла Моора давно выучены и проговорены. Меня подкосило вначале признание Пети: тайком от меня он тоже приготовил роль, шансы были неравны — Петя высок, осанист, голос перестал ломаться. Нас помирило внезапное появление Карла Моора — артист, презрев высокую температуру, пришел на репетицию.
В пьесе Рышкова мы играли очередь пассажиров на вокзале, у билетной кассы; не более чем фон для драмы героя, которого играл все тот же артист, мучимый малярией. Он завершал любовный монолог, когда я шепнул фразу, в тексте пьесы отсутствующую: «Вы, кажется, влезли без очереди». Школьник, стоявший впереди, обернулся, глаза его были полны ужаса. Реплику мою кроме него никто не расслышал. Правда, помреж сказал мне рассеянно, что переговариваться на сцене не художественно.
Сценическая моя карьера вскоре закончилась — и бесславно. Как-то нас одели в средневековые камзолы, реквизиторы небрежно швырнули в нас ботфортами, дали алебарды… На этот раз предстояло быть фоном Уриэля Акосты.
Энциклопедически образованный редактор охотно разъяснил нам, свертывая самокрутку, — Уриэль Акоста есть португальский философ, преследуемый Великим Инквизитором, он бежал в Голландию, где и был отлучен амстердамской синагогой за то, что не верил в загробную жизнь, в бессмертие души и вообще был безбожником, что не могло нравиться ни Великому Инквизитору, ни амстердамской синагоге.
Трагедии Гуцкова, прельстившая режиссера антирелигиозной направленностью и радикальным пафосом, не уступавшим шиллеровскому, была неотъемлемой частью тогдашнего революционного репертуара.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: