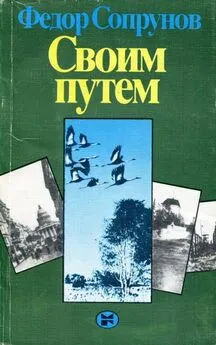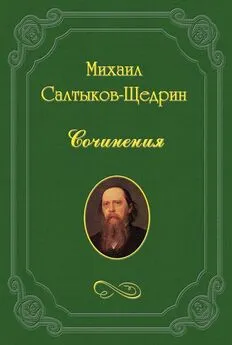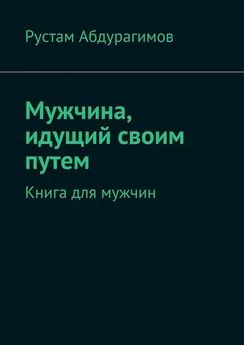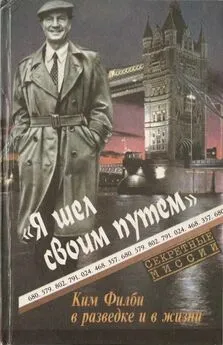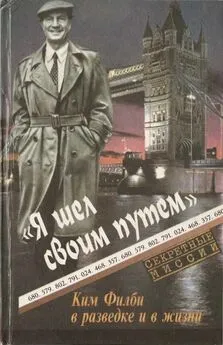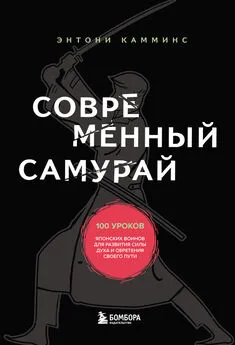Фёдор Сопрунов - Своим путем
- Название:Своим путем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фёдор Сопрунов - Своим путем краткое содержание
Своим путем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стою в дверях в грязном, изодранном врачебном халате и не поднимаю глаз.
Знаю, он ждет, что я заговорю с ним по-французски. Он усмехнется и вспомнит Париж, блистательную победу, парижанок. Может быть, это облегчит мою участь, поможет пленным, умирающим от голода в ревире. Но я не могу, что-то сдавило горло.
— Quartier latin… — подсказывает он, произнося французские слова с грубым немецким акцентом. Он ждет. Он снизошел до того, чтобы позволить беглому студенту из Латинского квартала по-холуйски выразить свое восхищение победителем Парижа. И милостиво ждет.
Молчу, опустив голову.
— Пшел вон!
В другой раз, во время обхода ревира, оберштабсарцту попался на глаза умалишенный, которого мы прятали в одном из бараков. Он вышел навстречу оберштбсарцту и остановился перед ним. Лил дождь. Больной стоял голым под дождем и улыбался, поглаживая свой впалый живот.
На следующий день оберштабсарцт принес большую дозу снотворного и вызвал меня.
— На, введи ему смертельную дозу. Усыпи его, пусть не мучается.
Я отрицательно покачал головой.
— Ему же лучше. Заснет, и все. Это гуманно.
— Я врач.
— Я приказываю!
— Нет.
— Прикажу выпороть тебя.
— Я врач.
— Выпороть!
Больного убили полицаи палками. Они гоняли умалишенного туда-сюда и били, пока он не свалился. Почему-то это называлось у них «судом божьим». А меня выпороли.
Странная вещь — психика человека. Писать о самом себе с полной объективностью, видимо, невозможно. Я много раз писал об этих далеких событиях и каждый раз выбрасывал написанное. Я не мог себя заставить рассказать о том, что меня выпороли. И сейчас я упустил бы упоминание об этом унижении, если бы не понял, что это один из тех «кусочков жизни», которые необходимы для понимания истины.
После порки я лежал на животе и кусал себе руки. От боли и стыда. Обмыл меня — в конце порки я не сдержался — и перевязал «санитар» Черемисин. Закончив перевязку, он сказал спокойно: «У нас говорят, за битого двух небитых дают». И пошел.
Так Черемисин снова вошел в мою жизнь, а я избавился от неприязни к нему, вызванной его превращением в «санитары». У меня исчезли какие-то глупые представления о «героизме», похожие на лубок.
Я был одинок. К полицаям и переводчикам абвера и гестапо я испытывал непреодолимое отвращение и презрение. И не столько за их жестокость, сколько за их холуйское подобострастие перед немцами, французами, перед Европой, сдавшейся на милость победителя. И они меня ненавидели за то, что у меня было все, чего им не хватало для карьеры предателя и холуя: знание нескольких языков и глубокие корни в Европе. С Флейшманом и Прудзинским тоже не установилось близких отношений, их мистицизм и фатализм не трогали меня. Терновских и другие советские врачи, прибывшие в Гаммерштейн с восточного фронта, вначале сторонились меня. А толпа пленных, умиравших в ревире и на блоках, просто отталкивала от себя с ненавистью и опасением.
Небольшой отдушиной были встречи с французскими военнопленными и группой молодых польских врачей, которых прислали в Гаммерштейн и поселили в «форлагере» русского лагеря. Это были симпатичные ребята без той предвзятости к коммунизму, которая ощущалась у польских офицеров старшего поколения. Но и они не верили тогда, в конце сорок первого года, в то, что Красная Армия может остановить фашистское наступление. Их надежды были связаны с Англией и Соединенными Штатами Америки, которые только вступили в войну. В то тяжелое время все относились с высокомерием и бо́льшим или меньшим состраданием к советским людям, погибавшим в неволе.
Зимой сорок первого года в русском лагере вспыхнул сыпной тиф. Он быстро охватил весь лагерь. Немцы, даже Седой, перестали бывать на блоках. Полицаям сделали прививку.
И вот однажды меня вызвал оберштабсарцт и дал мне ампулу, чтобы я тоже сделал себе прививку от сыпного тифа.
Доктор Флейшман внимательно посмотрел фирменную этикетку на ампуле и покачал головой: «Стоит ли делать, пан коллега?»
К тому времени в ревире нас было человек восемь, пленных советских врачей. Четверо поделили между собой ампулу и сделали себе прививки. Мы заболели одновременно все четверо. Двое умерли. Это была не вакцина, а культура Rickettsia Prowazekii, возбудителя сыпного тифа.
Я болел тяжело. В памяти сохранилось видение глубокой черной ямы. Я медленно опускаюсь в нее. Хватаюсь за стенки, они осыпаются. Пытаюсь кричать: «Я врач!», но опускаюсь все глубже. Звучит назидательный голос профессора Района: «Священник, врач и нотариус — каждый владеет одной третью человека». Над ямой появляется львиная грива Герке, гремит его голос: «Какой ты врач, и я тоже… В дерьме мы все, в дерьме», и раздается пьяный смех. Заглядывает в яму молодой оберштабсарцт, протягивает ампулу. Опускаюсь все ниже и ниже. Наступают тишина и покой. «Каждый прожитый день — милость божья», — говорит, прощаясь, голос старого доктора Флейшмана.
Потом снова пробудилось чувство тревоги. Я в яме, но над ней клубится туман. Смутно помню доброе, старое лицо доктора Флейшмана, которое иногда выплывало из тумана. Узловатые руки что-то делали, стараясь помочь мне.
Помню Черемисина, который смачивал мне губы и стоял рядом.
Потом наступила тихая радость. Ясное, ни с чем не сравнимое чувство глубокого покоя. Я выздоравливал.
Лежу неподвижно и часами смотрю в окно, на небо. Я в бараке, среди пленных. Слышу голоса и прислушиваюсь к ним. Вижу лица и вглядываюсь в незнакомые глаза. Пленные стали близкими и понятными.
— Сижу я, значит… — рассказывает тихий голос надо мной…
Слушаю неторопливый рассказ и радуюсь. Я жив. И вокруг все живые. И баланду скоро принесут, а мне врачи пришлют «пулягу» [22] Добавку.
.
— А тот, в яме, тоже мертвый. Задохнулся, как поэт на него навалился. Попробовал я его вытащить, не могу. Отечный, тяжелый такой. Раздел я его в яме. Сам оделся. Главное, хорошие ботинки попались: подметки крепкие, а верх вида не имеет. Значит, полицаи не отберут. Но потом-то я намучился. Кто был в Хэльме, тот знает: снимать одежду — снимай, только потом тащи мертвеца в трупарную, не то полицаи прибьют. Спасибо, ребята научили: кальсонами за шею и тащи. По грязи он сам поплыл. И того, поэта, стащил в трупарную. Жалко стало.
— Слышь, танкист, ты не про Чумака? Тот Чумак все к фашистам лез, что в лагерь приезжали. Себя «местным поэтом» называл. Стихи писал: «Мы Гитлера сыны…»
— Нет. Этот был ничего, свой. Из Москвы, говорил. Мы таких гадов, как Чумак…
— А ты помалкивай. Вон, лежит снизу.
— А ничего. Он свой. Из Парижа, но свой.
Я чуть не заплакал. Одиночество кончилось.
Потом делили хлеб. Как все, я был поглощен наблюдением за выверкой самодельных весов: коромыслом служила длинная палочка, подвешенная на веревочке. На концах коромысла, на ниточках, висели две заостренные короткие палочки, на которые натыкали кусочки хлеба. Крошки сыпали сверху на хлеб, чтоб уравновесить, если разница в весе была невелика. Или, если один кусок был заметно тяжелее другого, от него осторожно отщипывался кусочек и откладывался в сторону. Для довеска. Точно поделить хлеб было большим искусством, и все напряженно следили за дележкой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: