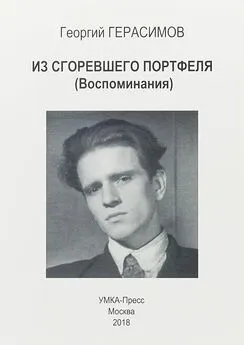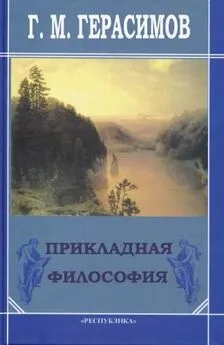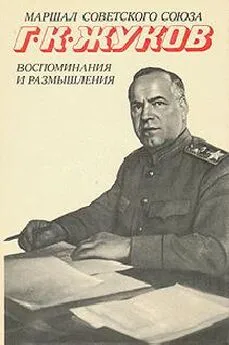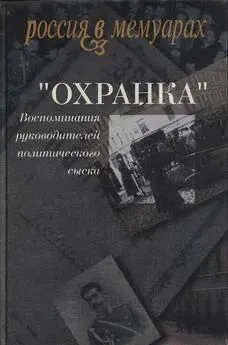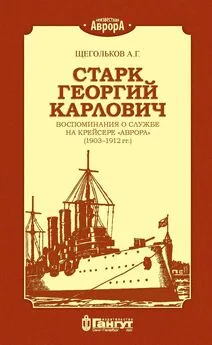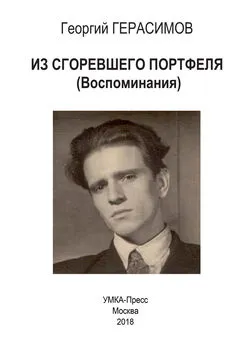Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Название:Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) краткое содержание
Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вернемся к семейству Бейлиных.
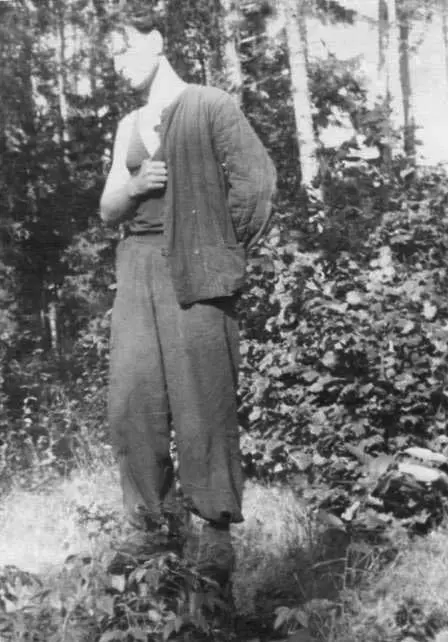
очевидно, там же и тогда же
Глава семьи Исаак Аронович Бейлин – часовщик, оптик, гравер, не знаю, кто еще, один из последних обломков НЭПа в Москве, пусть и работал от какой-то артели. До конца пятидесятых сидел он в каморке, в одном из подъездов в начале улицы Кирова (Мясницкой), напротив «Лубянки», принимал от многочисленных граждан заказы на всевозможные мелкие поделки. В артели был на хорошем счету, но вероятно, и себя не забывал. Семья. И не маленькая... В жизни, несмотря на внешнюю суровость, был Исаак Аронович человеком добрейшей души, расположенной к людям. Семейка, не слишком главу рода уважавшая, особенно когда дети подросли – разрешали себе иронизировать и посмеиваться, умела весело и беззаботно транжирить рубли, нелегким трудом добываемые отцом. И вот этот гравер-часовщик, в конце двадцатых годов еще перебравшийся в Москву с Украины с молодой красавицей женой, угнездился, выписал младшего брата, устроился на окраине тогдашней столицы, на Хуторской улице, в старом деревянном домишке. Пиликал он по своим еврейским праздникам на скрипочке пронзительно-грустные и бесшабашно-веселые мелодии, и при этом плакал и так бывал счастлив, что и рассказать невозможно. Что жило в душе этого человека? Ни разу не удалось мне поговорить с ним по душам, хотя и любил он меня, может, и прочил в мужья своей старшей... Домик их с какими-то пристройками, клетушками, сенями, с запахом гнилого дерева, сырости, с кадушками солений и банками варений, был очень характерен для московских окраин, возникших, вероятно, еще в конце прошлого века. Я всегда с удовольствием бывал тут, много чего рождало в душе бытие их семьи. Теперь на месте их халупы многоэтажная громадина, у детей свои квартиры, а стариков давно уже нет на свете. Не могу не рассказать один анекдотический случай, связанный с этим семейством. Вернулись они из эвакуации, пожалуй, лишь в конце сорок пятого. Весной сорок шестого уже переехали на дачу и привезли с собой двух козлят. Сколько же надежд возлагалось на этих милейших сереньких жителей Хуторской улицы! Как ждали Бейлины лета, как мечтали: вот поедем на дачу, сена заготовим, станем пасти козочек, а главное, дети будут вволю козьего молока иметь! Перебрались...Тут мы и встретились – я тоже впервые после войны поселился на своей мансарде. Козлята росли. Как же их пестовали, как чистили, травку им свежую рвали, хлебушком делились, ключевой водицей поили... Подошла осень. Всю зиму возились, отгородили в сенях для них закуток, гулять, словно собак, выводили на поводках... К весне вымахали козочки в здоровенных задир-козлов. А с козла, как известно, молока не получишь. Но старик не желал видеть очевидного. Снова привез на дачу, километра за два от поселка, в селе Гремячьем, нашел им «жениха», привел, получилась у них веселая драка. Обманули, всучили вместо козочек двух козликов. Почти два года терпели, от себя отрывали, чтобы вырастить, привязались. А понять, что воспитанники их не того рода – не сумели. Резать? Кто, когда, как? Уж и не помню, каким образом свершилось это действо... Слёз в семье было пролито предостаточно. Мальчишки ходили зареванными, а серо-белые шкурки, выделанные скорняком, долго еще украшали интерьер бейлинского жилища.
Памятно для меня Крюково не только первой и последней моей «охотой», о ней я уже писал, но и рыбалкой – вероятно, главной моей мужской страстью на всю жизнь. Мне бы удочку, червяка для наживки и любую лужу, где есть головастики и осока. Часами готов смотреть на поплавок... А ежели еще и клюет!.. В крюковском озере в те поры еще водился карась, белый и красный, линьки, окунишки, гольяны... Потом всех их извел бычок-ротан, как говорили, завезенный в наши водоемы из Китая... Но я и на того ротана согласен. Хотя три последних десятилетия отводил душеньку в Литве, на Куршском заливе и в устье Немана. До сего времени каждое лето кормлю свою семью свежей рыбой, а то и соседям перепадает. И уху варю, даже тройную, рыбацкую, и жарю, и копчу по всем правилам. Может, есть в этом некая непоследовательность? Лишить жизни живое, теплокровное – нельзя. Внутреннее табу. (Впрочем, и его нарушал, когда завели мы на даче вместе с Сюзанной цыплят; наши старшие дочери – ровесницы. Нужен был девочкам нежный куриный бульончик... Сделали вольер, пустили туда пару десятков пушистых комочков... Женщины их кормили, а вот... головы рубить приходилось мне. Было. Поймаю петушка, суну ему голову под крыло, покручу, покручу, цыпленок дуреет, вроде в транс впадает, тут его на чурбачок и – острым топориком. Потом держишь, пока кровь стечет. Занятие не из приятных, но делать нечего. Преодолел). А вот что касается рыбы... Их почему-то не жалею. Другие они, холодные, из иного мира. Помню, как-то лежал в маске на поверхности спокойного моря и смотрел на дно, дыша через трубку. До дна метров пять – каждый камушек виден, песок – барханчиками, слабо колышутся веточки водорослей... Интересно. И вдруг ни песка, ни камешков – течет подо мною косяк – рыба-игла, «стрёгалac» по-литовски. Все закрыла, куда ни покосись – рыбы. Миллионы, миллиарды особей. Текут и текут. Минут двадцать лежал, а они все прут куда-то. Даже оторопь пробрала. Так и не дождался конца. Не наш мир. Ну а потом, помните, первая щука?
Театр
Следует напомнить тем, кто жил в те годы, и рассказать более молодым, какая удивительная тяга к театру бушевала в человечьих сердцах в конце войны и в первые послевоенные годы. Залы каждый вечер набиты под завязку, причем кидалась публика на любые спектакли, в любые, самые захудалые театрики. Однозначно сказать, что именно столь властно гнало людей на эти порой примитивные зрелища, не смогу. Думаю, немалую роль играла здесь усталость человека от пережитого, от миллионов смертей, унесших ближних и дальних, от бесчеловечья времени. Тянуло сюда и то, что театр нес праздник, напоминал о мирных довоенных радостях, давал возможность отвлечься от трудного быта. А главное – в каждом отдельном человеке-персонаже спектакля – утверждал его самоценность, его индивидуальность, стертую, снивелированную бесправием лихолетья.
Москва сорок четвертого – сорок шестого была переполнена военными и гражданскими со всех краев огромной страны. Многие впервые, пусть ненадолго, на дни, короткие недели, попадали сюда по неотложным делам: кто-то проездом на фронт, кто-то долечиваясь в столичных госпиталях, кто-то направляясь в родные места из эвакуации. Полнили залы и возвращавшиеся москвичи, истосковавшиеся за годы вынужденной разлуки по ярким огням, музыке, веселью. Конечно, определенная дифференциация была и среди зрителей. Большинство, огромное большинство тянулось в оперетту. Опереточные барышники ломили за билеты самую большую цену. Но почти недоступными оставались и «серьезные» театры – МХАТ, Малый, Большой... Рестораны (уже работали «коммерческие») многим не по карману, новые фильмы – редки, это позже стали катать трофейные... Да и у себя, в дальних перифериях, можно было их посмотреть, а вот «московский» театр!.. Так что скоротать свободный вечер – только театр. Господи, что тогда творилось у театральных подъездов!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: