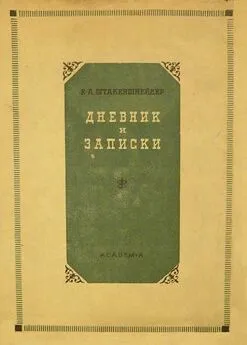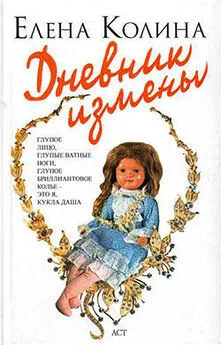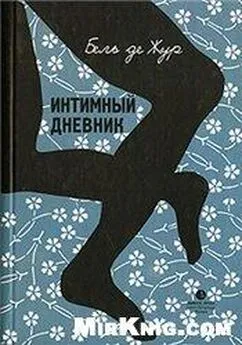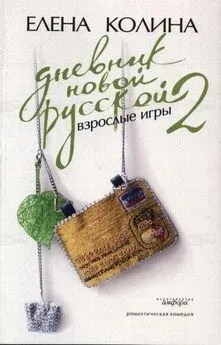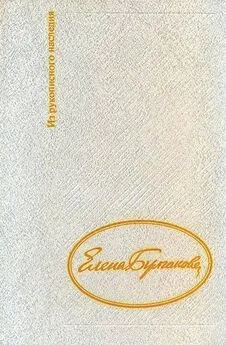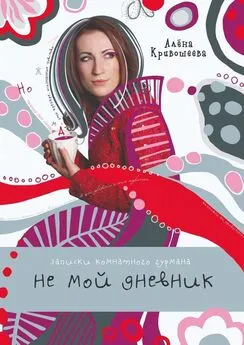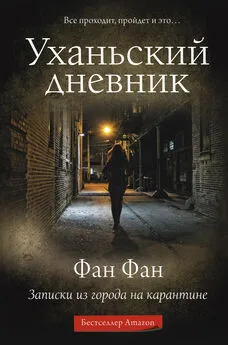Елена Штакеншнейдер - Дневник и записки (1854–1886)
- Название:Дневник и записки (1854–1886)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACADEMIA
- Год:1934
- Город:Москва, Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Штакеншнейдер - Дневник и записки (1854–1886) краткое содержание
Дневник и записки (1854–1886) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Суббота, 11 января.
Сегодня приступаю к дневнику моему еще вся взволнованная [139]. Только что читались речи Кокорева, Бабста, Кавелина, Павлова и Каткова, произнесенные ими в Москве, на обеде, даваемом на радость предстоящего освобождения [140]. Заря какой-то новой жизни занимается, в самом деле. О, не мне писать о ней. Я только могу повторять вслед за Иваном Карловичем: «Слава богу, что я еще не умерла!»
Вторник, 14 января.
Сейчас были у Гоха. Сегодня весь день читала «Wilhelm Meister», а вечером начала третью «Полярную Звезду», Искандера.
Среда, 15 января.
Раз разговорилась я с доктором Курочкиным и с Иваном Карловичем о том, чья из известных людей участь самая завидная. Много биографий перебрали мы, и, наконец, Курочкин задал вопрос, кого из известных женщин считаю я самой достойной зависти, не Жорж Санд ли? Но какая женщина Жорж Санд? Она полумужчина. Курочкин утверждает, что, напротив того, она именно и есть вполне развитая женщина. Но разве вполне развитая женщина должна походить на мужчину? После этого куст, выросши, должен сделаться деревом; соловей — вороной? Я не верю, что для женщины нет иного развития, как на этот образец.
Курочкин стоял на своем и долго и горячо защищал свою тему. А мне вдруг показалось, что мужчины из самомнения и самообожания выдумали это развитие, и не могут себе представить иного и самостоятельного. Когда я это высказала, Курочкин рассмеялся и расплескал свой чай.
Пятница, 17 января.
Кончила «Полярную Звезду» и сегодня опять принялась за «Вильгельма Мейстера», читала именно те главы, где Гете говорит о Гамлете, и читала их в зимнем саду.
Понедельник, 20 января.
Сейчас от Глинок, поздно, надо спать. Единственный неудивительный человек у них был Бенедиктов.
Вторник, 21 января.
Я глупо написала о гостях Глинок. Что это за суждения! Кто такой удивительный и неудивительный человек? Все удивительны и неудивительны. Но бывают минуты, что мне у Глинок тяжело дышать, точно в склепе; я уж привыкла к вольному воздуху.
Среда, 22 января.
Теперь мама ложится спать. Пана и Коля уехали на свадьбу и на байт, а все остальные уже спят. Все остальные спят, а я не сплю и, в тишине глубокой ночи, опять задумалась о пережитом, о странной болезни моей и о состоянии духа, в котором так долго находилась, — мучительном состоянии, когда человек перерос то, к чему Привык, и еще не привык к тому, до чего дорос. Помню, как я металась от книги к книге тогда, и — одна не удовлетворяла моего голода, а другая пугала еще пуще. Помню, как прислушивалась к людям, жаждая найти у них то, что мне было нужно, но вместо того преисполнялась лишь пущим ужасом. Но к чему я это все вспомнила? Хочется, что ли, разбередить едва зажившие раны? Ну, да, они зажили, но на них еще только струп, не рубец. Неловкое прикосновение может его сорвать. Я все еще — как тростник надломленный, как струна, еще звенящая; мне все еще виден тот край бездны, на котором я стояла. Мне все еще по временам кажется, когда я слушаю окружающих меня людей, что вокруг меня пустое сырое пространство; что обдает меня холодом; что и вблизи и вдали, и везде завывает пронзительно тонкий, неистово-страшный ветер; и под ногами — ничего, в трепетных, ищущих опоры руках — ничего, перед глазами — ничего и в ответ на клич — ничего.
Суббота, 25 января.
Вот я добилась того, что растревожила свои раны и не писала два дня. Теперь ночь опять, но теперь я себя победила, да и иначе настроена. Сейчас кончилась наша суббота. Были дедушка, Бенедиктов, тетенька Л., Лиза, Лавров, Глинки, Солнцев с дочерью, Данилевский с женой, Курочкины, Гебгардты, Соколов, Хлебовский, Панаев, Святский, Гох. Но некоторые из этих лиц почти весь вечер провели, запершись, наверху, в моей комнате. Они читали пятый и шестой номера «Колокола». Я, конечно, не слушала, мне надо было быть внизу. Но Гох говорит, что я немного потеряла, потому, во-первых, что там было слишком много возмутительного, а во-вторых, одна история, которую он и не дал бы мне слушать [141].
Вторник, 28 января.
Только что от Лавровых, а мне уж опять хочется к ним. Они мне нравятся. Нравится склад их жизни, вся их семья; их девочки в длинных локонах, с открытыми шейками и ручками, такие хорошенькие и благовоспитанные; она, красивая и величавая, смесь, но очень хорошая смесь, русской барыни с немкой из образованного и богатого дома, а главное, нравится он; и, может быть, не столько нравится, сколько любопытен. Я что-то стала тупа на анализ (и очень этому рада, впрочем), я не могу, в сущности, отдать себе ясного отчета в нем. Может быть, я смотрю на него глазами Бенедиктова, и Ивана Карловича, и тетеньки Ливотовой, которые тоже превозносят его до небес. Мне так нужно кому-нибудь верить, положиться на кого-нибудь. Он, в сущности, из тех, кого я так боюсь, кого избегаю, но дело-то в том, что от него я надеюсь получить ответы на мучающие меня вопросы. Кто же, если не он, может их дать, этот homme superieur [142], как его называют. Другие, мучители мои, кидают страшные слова и не дают себе труда привести для них доказательство; кидают вопросы, а ответов не дают, потому что не могут или не хотят. Лавров, с его умом, с его познаниями, с его античным, плутарховским характером, как говорит Бенедиктов, — должен дать эти ответы.
Только бы не оказалось у него ахиллесовой пятки; только не увидать бы мне его пятки.
Среда, 29 января.
Мне столько надо записать, но как справиться? Впечатления слишком разнообразны. Я живу слишком богатой умственно жизнью. Вижу, слышу, даже понимаю — слишком много. Если бы я с сегодняшнего дня перестала видеть, слышать и понимать и занялась бы только прошедшим, то и тогда не в состоянии бы была передать всего, а теперь возможно ли? Каждый миг приносит что-нибудь новое.
Кроме мучающих меня вопросов есть множество других, которые ныне, как птицы, почуявшие весну, реют из конца в конец; есть речи, которые и бичуют и режут подчас, но подчас и целят; и есть редкие, еще и неукоренившиеся, молодые ответы на иное. И как все это наполняет бытие и как сильно действует! А посреди этого всего — мои собственные обновившиеся силы, моя молодость, бьющаяся о свою клетку сильнее прежнего, но без прежнего отчаяния; близость весны, этого праздника природы, — как это все сильно действует!
Книга, которую я так спешила дочитать, называется: «Fabiola ou les Catacombes de Rome» par le Cardinal Wiseman [143]. Полонский писал мама, что она производит фурор в Риме, и мама купила ее. Я пробежала предисловие, и мне не захотелось ее читать. Случайно увидал ее Лавров, и тоже читать не захотел, но при каждом свидании спрашивал, прочла ли я ее. Наконец, решили, что прочтем ее оба порознь, конечно, и вот я свою задачу исполнила и передала книгу ему. Что сказать про нее? Историческая часть ее рассказана в Четьих-Минеях гораздо лучше, а большей простотой; как проведение известной идеи она слаба, а в целом кажется каким-то анахронизмом. Спеленутая добродетель действует в ней как-то поневоле, а полного, высокого произвола в ней нет; католические буквы зато затмили в ней слово, огня же, убеждения, нет. Описание римских нравов того времени было бы недурно, но сам кардинал говорит в предисловии, что за верность описания он не ручается. Католичкой она меня не сделает, а христианкой я родилась. Подвиги мучеников велики, но были люди, которые отдавали жизнь свою, и не надеялись на награду в будущей; да и о мучениках в Четьих-Минеях рассказано лучше. Что-то скажет о книге Лавров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: