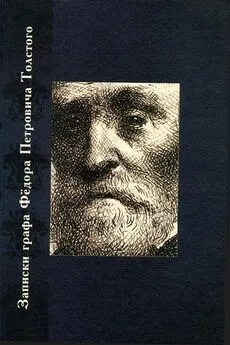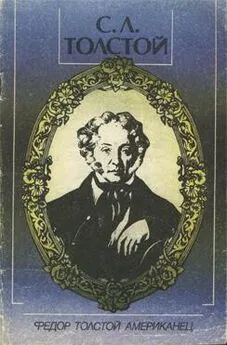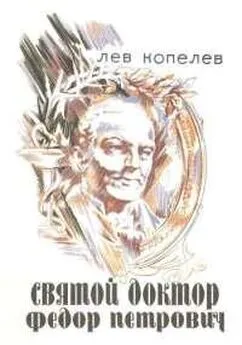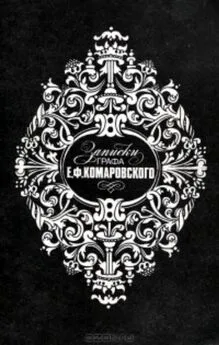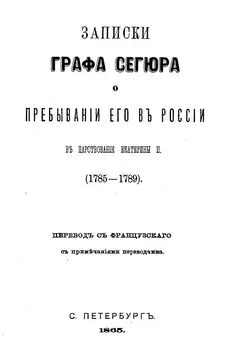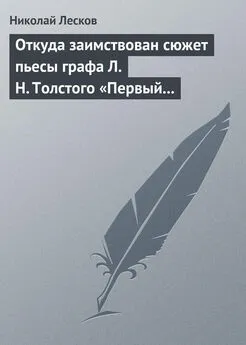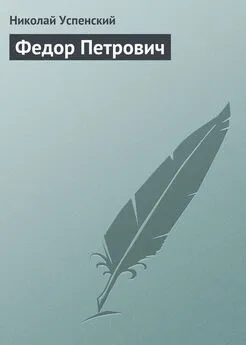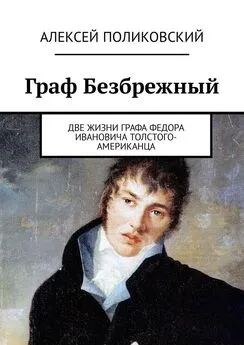Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого
- Название:Записки графа Федора Петровича Толстого
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российский государственный гуманитарный университет
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-7281-0332-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого краткое содержание
Часть «Записок» была опубликована в 1873 г. в журнале «Русская старина» со значительными редакторскими сокращениями и правками. Была опущена почти половина текста рукописи, где Толстой довольно резко критикует нравы высшего света екатерининской эпохи, дает далеко не лестную характеристику императору Павлу I и его сановникам, подробно рассказывает о своих учебных плаваниях в 1800–1801 гг. в Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию во время обучения в Морском кадетском корпусе.
Ф. П. Толстой принадлежит к той замечательной плеяде отечественных деятелей культуры, которые составляют славу России. Чем бы Толстой ни занимался — медальерным искусством, скульптурой, графикой, силуэтом, живописью, — он везде смог достичь больших успехов и доныне по праву считается одним из лучших художников первой половины XIX в. Художественные занятия не помешали Толстому не только интересоваться общественно-политическими событиями, но и принимать в них активное участие. В 1810 г. становится масоном, а вскоре и сам возглавляет масонскую ложу «Избранный Михаил». Почти одновременно он становится членом, а затем одним из руководителей тайного общества «Союз благоденствия». Толстой был знаком со многими писателями, поэтами, художниками и композиторами. Его знаменитый салон в разное время посещали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич, Ф. Н. Глинка, А. Н. Верстовский, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, И. А. Крылов, М. И. Глинка, А. Н. Майков, А. Ф. Писемский, Т. Г. Шевченко, К. П. Брюллов и многие другие. Частыми гостями были декабристы К. Ф. Рылеев, А. А. и Н. А. Бестужевы, С. П. Трубецкой, Н. М. и А. Н. Муравьевы, С. И. Муравьев-Апостол.
Для всех интересующихся историей и культурой России.
Записки графа Федора Петровича Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Мнение князя Голицына об нашем обществе, — говорил нам граф Ф. П. Толстой, — не могло меня беспокоить, но не могло не оскорблять. Хотя мы ничего официального ни от кого не получали, но нам достоверно было известно, что князь Голицын составленное им бог знает с чего мнение о нашем обществе доводил до сведения государя; как же оно было принято государем, не известно; но я все-таки тотчас в полном составе общества, отдав отчет в моих действиях за все время существования нашего общества и поблагодарив сердечно за честь, сделанную мне избранием меня в председатели, и за постоянную ко мне доверенность, объявил, что, к крайнему моему сожалению, побуждаем честию просить общество уволить меня от председательства и, по статуту нашему, утвержденному его величеством, немедленно избрать из среды себя нового председателя. На другой день по отречении моем от председательства на мое место назначен был председателем флигель-адъютант, мистик, князь Андрей Борисович Голицын, воображавший, что он открыл тайну вечного движения».
Вслед за определением нового председателя члены общества распространения в России ланкастерских школ, все до одного, отказались быть членами этого общества. Что стало с председателем несуществующего общества, никто из них не интересовался и знать. «Таким образом, — продолжал граф Ф.П., — наше общество распространения грамотности в простом народе рушилось [734]. Князь А. Н. Голицын был человек умный и благонамеренный, но не приготовленный с пользою занимать то место, на которое был поставлен; сверх всего он был еще отуманен наплывшею в Петербург с Запада мистикою. Испугавшись либеральных идей, явившихся и носившихся во Франции, Швейцарии и Италии, он во всем видел опасность; вследствие чего таким образом отнесся и к нашему обществу А стоило только князю Голицыну разузнать о способе, каким мы содержали нашими малыми средствами школу, выпускавшую каждые шесть месяцев по пятидесяти мальчиков, детей простого класса, хорошо обученных грамоте, он бы узнал, что, как ни малы были наши денежные средства, нам их достаточно было для содержания нашей школы по методе Ланкастера, самой дешевейшей из всех школ, и убедился бы, что мы не нуждаемся ни в чьей помощи не только от всегдашних врагов наших, но и от дорогого нам отечества. Князь А. Н. Голицын, рожденный в роскоши, воспитанный при дворе Екатерины Великой, живший в полном довольстве и почести, не знал и не подозревал, что, кроме денег, есть средство, почти так же сильное к достижению предпринятой цели, — это решительное, постоянное стремление ее добиться, не щадя личных трудов своих.
Деньги нужны были нам на наем дома для школы, на жалованье постоянного учителя по методе Ланкастера, получившего от нас все нужные для того сведения, на наем двух сторожей, наблюдавших за порядком и чистотою в классах, и одного сторожа при входных дверях в школу; на это мы имели достаточно денег от ежегодных взносов членами общества на содержание школы по тридцати рублей в год.
Заводя и устраивая эту школу не для показу, а для настоящей пользы, которую грамотность простого класса людей должна принести государству, мы, соображаясь с нашими средствами, в отдаленной улице Коломны нашли дом деревянный, снаружи весьма невзрачный, но просторный и весьма удобный для устройства в нем школы и квартиры учителя. Этим оканчивались наши денежные расходы на содержание школы; остальное все исполняли мы сами, как-то: должность помощников постоянного учителя, блюстителей тишины и порядка во время классных часов, надзор за прилежанием учеников, учение первых четырех частей арифметики, краткое сведение о географии и русской истории, наблюдение за нравственностию мальчиков, — для чего ежедневно, во все время классов и пребывания в школе учеников, дежурили каждый день, по очереди, по четыре члена.
Если бы князь Голицын обратил на все это внимание как министр народного образования, то не был бы виною падения неоспоримо полезного отечеству общества, но, вероятно, и сам сделался бы деятельным участником распространения ланкастерских школ во внутренних губерниях России».
…Граф Федор Петрович Толстой по близким отношениям своим с некоторыми из декабристов был призываем перед верховный суд. Вот что сказано об этом в его «Записках»:
«В Петербурге носились слухи, что в 1823 году государем Александром Павловичем был отдан архиепископу Филарету [735]на сохранение пакет, запечатанный печатью его величества, с тем чтобы он открыт был по кончине государя. В городе говорили по секрету, что во врученном Филарету на сохранение пакете находился акт отречения великого князя Константина Павловича от наследия российского престола в пользу его высочества великого князя Николая Павловича.
В 1825 году, 1 декабря, по смерти Шилова я был определен учителем медальерного класса Академии художеств, хотя, с разрешения совета Академии художеств, я уже пятый год заведовал этим классом и учил безвозмездно, заменяя учителя медальерного класса, для того чтобы правление Академии художеств не лишало его, больного, обремененного семейством, содержания, получаемого им по занимаемому им этому месту.
В том же 1825 году, по назначению врачей, положено было, чтобы императрица Елисавета Алексеевна для поправления своего здоровья провела конец зимы в Таганроге. Государь отправился для осмотра этого места, туда уехала и императрица. В Таганроге император Александр Павлович занемог и 19 ноября скончался. О кончине его величества пришло в Петербург письмо Елисаветы Алексеевны, начинавшееся словами: «Наш ангел в небесах». Вскоре после кончины Александра Павловича (на смерть которого поручено было мне сочинить и вырезать медаль) скончалась и кроткая, благодетельная наша царица Елисавета Алексеевна, в городе Белеве, 1826 года, 4 мая.
1825 года, 14 декабря, собраны были в академической церкви правление Академии, совет и все профессора, академики, ученики, чиновники конторы и все служившие при Академии для принесения присяги восшедшему на всероссийский престол императору Николаю Павловичу; по окончании присяги разнесся слух, что перед Сенатом на Исаакиевской площади стоит батальон Московского полка, требуют Константина Павловича и кричат о конституции. Гул этого крика был слышен и у нас. Любопытствуя узнать, в чем состоит это явное возмущение, поспешил я на Исаакиевскую площадь (тогда я носил еще военный мундир); самым скорым шагом перешел я Неву, на которой стояло любопытствующих, наверное, до тысячи разного звания мужчин и женщин. Я вошел на Исаакиевскую площадь у Сената. Гауптвахта стояла во фронте с ружьями на плече; между ними и монументом Петра Великого стояли солдаты Московского полка, не более батальона, состава правильное каре, внутри которого я видел несколько фигур, которых рассмотреть не мог, проходя очень скоро по левой стороне этого каре, кричавших в один голос — кто имя Константина Павловича, кто конституцию и еще какие-то слова, которых в этой массе слившихся голосов расслышать было невозможно. За монументом, проходя к забору строившейся Исаакиевской церкви, где было меньше народа, я увидел стоящего на Адмиралтейском бульваре, лицом к Сенату, молодого, только что вступившего на трон императора, окруженного главным штабом, генерал- и флигель-адъютантами, а возле него Карамзина. Государь был очень бледен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: