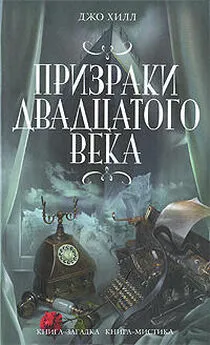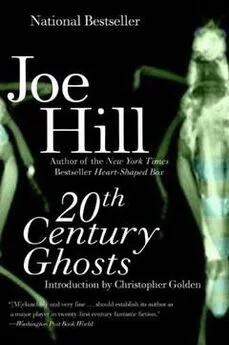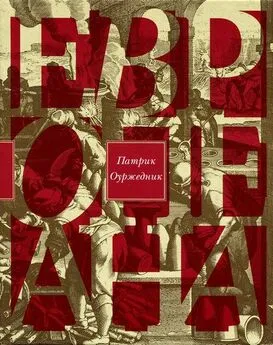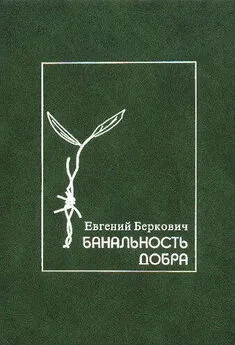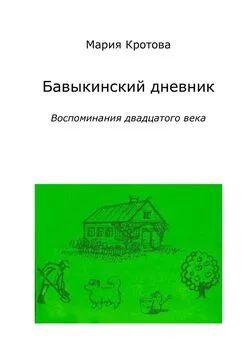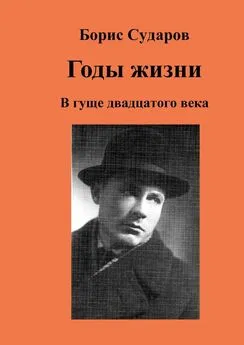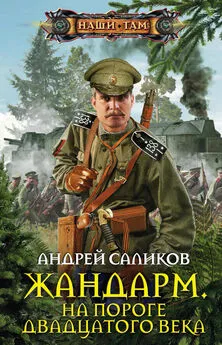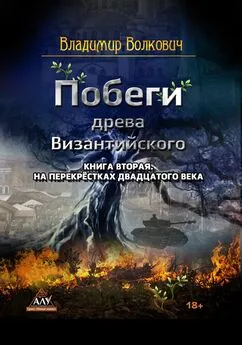Игорь Ефимов - Пять фараонов двадцатого века
- Название:Пять фараонов двадцатого века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Семь искусств
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Ефимов - Пять фараонов двадцатого века краткое содержание
Пять фараонов двадцатого века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ещё одно наблюдение представляется весьма многозначительным: большинство протестантских стран Европы оказались невосприимчивы к пропаганде коммунизма и национализма. И это при том, что они давали приют самым радикальным проповедникам и того, и другого: Марксу, Энгельсу, Бакунину, Ленину, Муссолини. Думается, что протестантизм, будучи на тысячу лет моложе католичества и православия, не успел так закостенеть в догматизме и схоластике, как исходные ветви христианства. После четырёх веков развития он был ещё полон живых токов и оставлял человеку достаточный простор для утоления жажды бессмертия. Сюда же можно отнести и другой важный факт: среди десятков крупных тиранов, разгуливающих по 20-му веку, мы не найдём, кажется, ни одного, кто бы созревал в протестантской или иудейской семье.
Итак, следует признать, что погоня за бессмертием перенеслась из сферы религиозного противоборства на просторы политических баталий. Всюду, где мы видим людей, идущих на верную смерть, отстаивая свою мечту о наилучшем государственном устройстве, мы имеем право считать, что их настоящая цель — жизнь вечная.
В жарких политических дебатах знание истории, экономики, социологии, литературы играет огромную роль. Это оружие, побеждать без которого невозможно. Введение всеобщего обязательного образования в 19-м веке совершило переворот не только в истории культуры, но и в политической истории. То, что раньше было доступно немногим, стало всеобщим достоянием. Это всё равно, что распахнуть двери арсеналов с оружием: входи любой, вооружайся и иди в бой.
Начитавшись взрывоопасных переводных книг, пятеро наших героев ринутся в борьбу и станут предлагать своим народам разные формы бессмертия. Сталин, Мао, Кастро будут звать на бой за царство коммунизма, не имеющее границ в пространстве и времени. Муссолини пообещает итальянцам вернуть им гражданство в Древней Римской империи и повести на бой за расширение её сегодняшних и будущих границ. Гитлер — восстановить для немцев кровную связь с древними германскими племенами и подарить им Тысячелетний рейх, в котором никогда не будет заходить солнце. Интересно, учтут ли будущие фараоны тот факт, что звавшие к коммунизму прожили долгую жизнь и умерли, окружённые всеобщим поклонением своих подданных, а звавшие к национализму — погибли один за другим, потерпев полное поражение от своих врагов?
Летопись третья. ИХ БУНТ
Против Российской империи
Выступая на тайных собраниях рабочих, Сталин строил свои речи по самой упрощённой схеме: «Почему мы так бедны? Почему так бесправны? Что можно сделать, чтобы изменить это?» Ответ был один: «Поднимайтесь на революционную борьбу для переустройства жизни по учению Карла Маркса».
Среди его слушателей было много неграмотных, обрывочно знакомых только с библейскими текстами, услышанными в церкви. Проповедь отказа от собственности была им известна, так же как слова «священный», «вечный», «бессмертный». Они легко ассоциировали свои сходки с собраниями ранних христиан. Одним из подпольных псевдонимов Сталина было слово «Поп». [133] Montefiore, Simon Sebag, Young Stalin (New York: Alfred A. Knopf, 2007), р.77.
Он вскоре рассорился с более умеренными проповедниками марксизма, примкнушими к меньшевистскому крылу социал-демократической партии. Те считали своей главной задачей повышать уровень образованности рабочих, расширять их кругозор. «Мы должны учить их только одному — быть революционерами», — настаивал Коба-Сосо.
Вскоре ему в руки попали статьи единомышленника, скрывшегося под псевдонимом Тулин. В них проповедывались идеи безжалостной вооружённой борьбы. «Я должен встретиться с этим человеком любой ценой!», — восклицал Коба. Работа, называвшаяся «Что делать?» (1902), стала его священным писанием. Впоследствии он заявлял: «Если бы не Ленин, я мог бы остаться хористом в церковном хоре». [134] , p. 75.
В конце 1901 года подпольщик Коба появился в Батуми. Этот портовый город на берегу Чёрного моря бурно развивался в связи с постройкой в нём крупного нефтеперерабатывающего завода. Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что именно вскоре после прибытия Кобы на складах завода вспыхнул пожар, а рабочие устроили забастовку и демонстрации, при разгоне которых несколько человек погибло. Свидетели вспоминают, что Коба привозил раненых в квартиры сообщников и помогал перевязывать их. «Мы потеряли товарищей, но победили, — говорил он. — Весть об этих схватках облетит всю страну». [135] , p. 95.
Несмотря на постоянные смены псевдонимов и квартир, Коба на этот раз не смог увернуться от полицейских ищеек. Он был арестован во время очередной сходки и помещён в тюрьму. Ему пришлось быстро осваивать правила тюремного существования, и эта наука впоследствии была широко использована им при организации советского ГУЛага.
Как правило, политических заключённых помещали отдельно от уголовников, видимо, опасаясь распространения революционной пропаганды. Но Сталин с первых же дней и в последующих ссылках явно предпочитал сближаться с ворами и бандитами. «Среди интеллигентов слишком много шпиков», — объяснял он. [136] , p. 103.
Скорее всего, причина была другая. Над образованными людьми доминировать было труднее. А подчинять других своей воле было с юности любимым занятием Кобы, страдавшего от многих комплексов.
Связь между камерами осуществлялась при помощи специального «тюремного телеграфа» — перестукивания с использованием примитивной «морзянки». Если камеры находились на разных этажах, пакетик с посланием можно было спустить на шнуре через решётку открытого окна. Получатель прочитывал его, писал ответ и отправлял его тем же способом обратно. [137]
Сокамерники вспоминали, что в заключении Коба сохранял абсолютное спокойствие. Ничто не могла заставить его выйти из себя, потерять самообладание. Так же нельзя было представить его расхохотавшимся или, тем более, — плачущим.
Во время прогулок во дворе можно было не только обмениваться новостями, но и передавать распоряжения на волю через тех, кому предстояло скорое освобождение. Разрешались визиты родных (мать Сосо дважды навестила его), и это тоже использовалось как ниточка связи. Коба мог из камеры руководить ячейками в других городах наподобие того, как это делает мафиозный босс в сегодняшней Америке.
Он строго соблюдал собственный распорядок дня в тюрьме. После утренней разминки приступал к чтению и изучению языков. Камера стала для него настоящим университетом. Потом общался с теми, кто признавал его лидерство, рекомендовал им чтение по истории и экономике. Однажды заключённый из соседней камеры спросил его о «Коммунистическом манифесте». Зарешеченные окошки в дверях были открыты для вентиляции, и Коба стал читать манифест вслух. Вдруг в коридоре раздались шаги. Сталин замолчал. Подошедший надзиратель негромко сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: