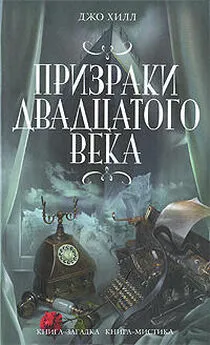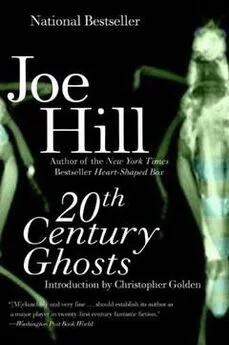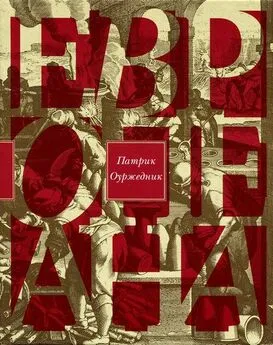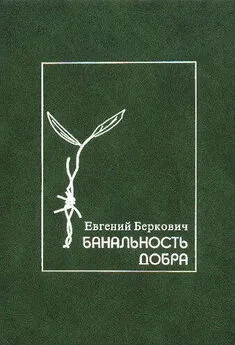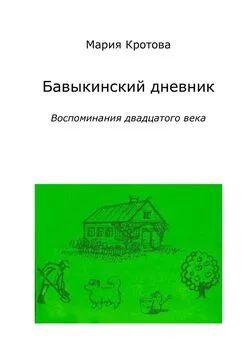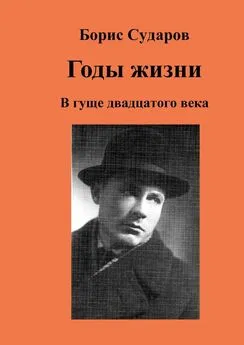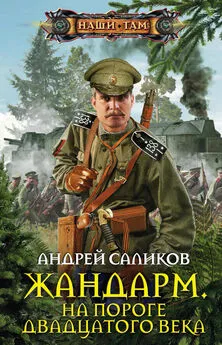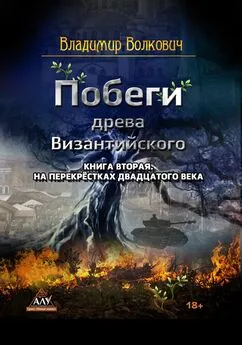Игорь Ефимов - Пять фараонов двадцатого века
- Название:Пять фараонов двадцатого века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Семь искусств
- Год:2019
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Ефимов - Пять фараонов двадцатого века краткое содержание
Пять фараонов двадцатого века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«25 февраля. Трамваи остановились по всему городу. На Знаменской площади митинг… У здания Городской Думы была первая стрельба — стреляли драгуны… [Обер-прокурор Синода] Карташёв упорно стоит на том, что это “балет” — студенты, и красные флаги, и военные грузовики, медленно движующиеся по Невскому за толпой… Если балет — какой горький, зловещий… У либерало-оппзиционеров нет никакой связи с происходящим, даже созерцательно-сочувственной. Они шипят: какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать! Теперь всё для войны! Пораженцы!..
26 февраля. Часа в три была на Невском серьёзная стрельба, раненых и убитых несли тут же в приёмный покой под каланчу. Сидящие в Европейской Гостинице заперты безвыходно и звонят нам оттуда, что стрельба длится часами. Настроение войск неопределённое. Есть, очевидно, стреляющие, но есть и оцепленные, то есть отказавшиеся…» [264] Гиппиус Зинаида. «Петербургские дневники. 1914–1919» (Нью-Йорк: Телекс, 1990), стр. 78–80.
К сожалению, ни сама Зинаида Гиппиус, ни её друзья из Государственной Думы не ходили сами в лавки за хлебом и не стояли морозными ночами в длинных очередях, тянувшихся на несколько кварталов в том феврале. Перебои со снабжением привели Петроград в состояние кризиса. Может быть, виновата была нехватка поездов и кораблей, вызванная войной, может быть, спекулянты только радовались подскоку цен, но так или иначе, у правительства не было административных рычагов для активизации доставки хлеба. Когда казаков посылали разгонять демонстрации голодных женщин, они отказывались, заявляя, что сами голодают и готовы грабить продовольственные лавки.
Отказались стрелять по бунтовщикам не только полки в Петрограде. 2 марта генералы, командовавшие фронтами, послали царю телеграммы с «верноподданической просьбой отречься от престола». Об этом же просили представители Думы, прибывшие в ставку, где находился Николай Второй. Опасаясь за судьбу своей семьи, остававшейся в это время в Царском Селе в окружении бунтующих войск, царь не нашёл в себе сил отстаивать права самодержца. Монархия пала, и стремительно начал набирать силу «русский бунт, слепой и беспощадный».
Российские ниспровергатели, ликовавшие в марте 1917 года по поводу падения династии Романовых, воображали, что теперь в стране легко восторжествуют принципы свободы и демократии. Толпы ликующих демонстрантов, украшенных красными бантами, шествовали по улицам. Пресса восхваляла «бескровную революцию», обходя молчанием все случаи бессудных расправ над «угнетателями», не упоминая даже о том, что в одном только Кронштадте взбунтовавшиеся матросы убили полторы сотни офицеров, включая двух адмиралов. [265] Радзинский Эдвард. «Сталин» (Москва: Вагриус, 1997), стр. 112.
Если бы в Думу, занятую формированием Временного правительства, явился некий гость из будущего и объявил депутатам, что следующий 1918 год они будут встречать под властью большевиков, его бы, скорее всего, подняли на смех. Или начали бы спрашивать: «А кто это такие? Это та жалкая кучка смутьянов, требующая отмены частной собственности? Которая сейчас вышла из ссылок, тюрем, вернулась в страну из эмиграции? Да кто станет их слушать, кто пойдёт за ними?!».
Идолопоклонники демократии не понимают, что пресловутая «воля народа» не определяется числом голосов, поданых на выборах. Она определяется числом людей, готовых убивать и быть убитыми ради утоления своих страстей. Если какой-нибудь идее удастся сплотить воедино всего лишь 10 % населения, это меньшинство рано или поздно возьмёт верх над остальными 90 %, которые хотели бы просто мирно жить и трудиться внутри той государственной постройки, которая им досталась.
Именно этой работой сплочения вокруг идеи «разрушения мира эксплуататоров» страстно занялись выпрыгнувшие на политическую арену Ленин, Троцкий, Свердлов, Каменев, Молотов и другие большевики. Сталину досталась чуть ли не самая ответственная часть: руководить большевистской прессой. Уже в марте он и Каменев взяли контроль над газетой «Правда», над печатанием и распространением листовок. Ленин, по прибытии в Петроград в апреле, начал выступать с пламенными призывами к свержению буржуазного Временного правительства. Яростная пропаганда достигла такого накала, что уже 18 июня большевикам удалось организовать большую демонстрацию в Петрограде. Сталин так описал её в «Правде»:
«Солнечный ясный день. Шествие идёт к Марсову полю с утра до вечера. Бесконечный лес знамён… От возгласов стоит гул, то и дело раздаётся: “Вся власть Совету! Долой министров-капиталистов!”.» [266] Там же, стр. 111.
На следующий день после демонстрации на совещании членов ЦК партии большевиков Ленин заявил: «Пора перейти к демонстрации силы пролетарских масс». Эту «демонстрацию силы» удалось осуществить 4 июля. Для поддержки демонстрантов приплыли вооружённые матросы из Кронштадта. Толпа собралась у особняка Кшесинской, на балкон вышли Луначарский и Свердлов. Но матросы требовали Ленина. После его выступления толпа двинулась к Таврическому дворцу, где заседала Дума. Весь день шли беспорядочные манифестации, вооружённые толпы заполняли улицы. Но к вечеру в город вошли воинские части с фронта верные правительству. [267] Там же, стр. 113.
Зинаида Гиппиус записала в своём дневнике: «3, 4 и 5 июля — дни ужаса, дни петербургского мятежа. Около тысячи жертв. Кронштадцы, анархисты, воры, грабители, тёмный гарнизон явились вооружёнными на улицы… Для усмирения была применена артиллерия. Вызваны войска с фронта… Кадеты все ушли из правительства. (Уйти легко.)». [268] Гиппиус, ук. ист., стр. 134–135.
Умеренные политики ушли из правительства, потому что не хотели испачкать свою репутацию теми жестокими и недемократичными мерами, которые одни только и могли бы спасти страну в кризисной ситуации. Оставшийся у руля Керенский заметался. Сначала он выпустил приказ об аресте большевистских главарей. Троцкий и Каменев оказались за решёткой, но «вождя» Сталину удалось укрыть сначала на тайных квартирах, потом в шалаше под Сестрорецком.
Керенский тем временем потребовал, чтобы главнокомандующий, генерал Корнилов, двинул на Петроград надёжные части, сняв их с фронта. Но когда казачьий корпус под командой генерала Крымова стал приближаться, Верховный правитель вдруг изменил свою позицию: объявил Корнилова мятежником и призвал на защиту от него все «революционные силы», включая эсеров, анархистов, кронштадских матросов, даже красногвардейцев. [269] Там же, стр. 164.
Большевистские агитаторы проникли в ряды корпуса Крымова, призывали казаков перейти на сторону революции, не служить «эксплуататорским классам». Корпус постепенно таял и после недолгого боя под Пулковым был отбит. Арестованных большевиков выпустили на свободу, и они возобновили агитацию за свержение Временного правительства и за выход из войны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: