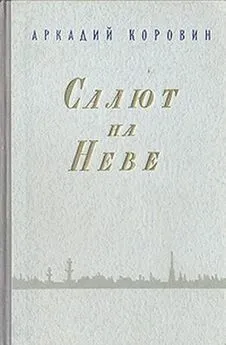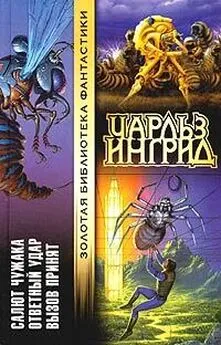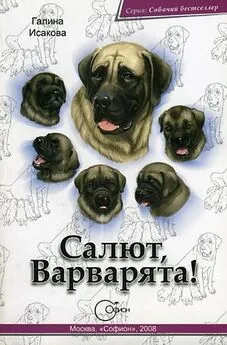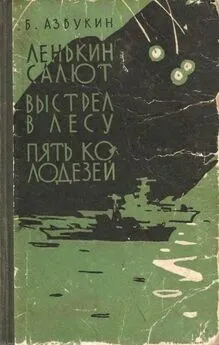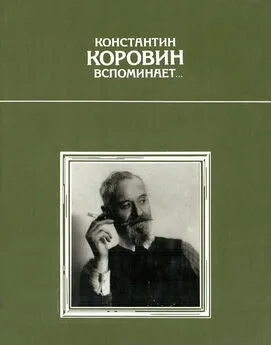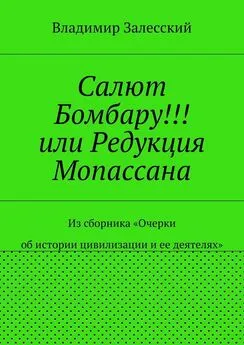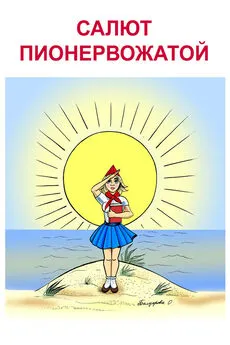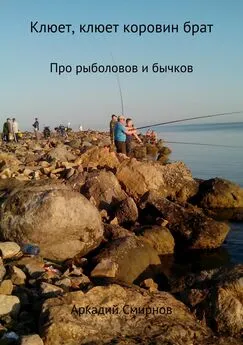Аркадий Коровин - Салют на Неве
- Название:Салют на Неве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1950
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Коровин - Салют на Неве краткое содержание
В электронной публикации сохранено правописание, соответствующее изданию 1950 г.
Салют на Неве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Под Пулковом ранило меня, когда наш батальон пошел в наступление, — не спеша говорил он, стараясь помогать санитарке мыть и поворачивать свое худое, наболевшее тело. — Немец залег на пригорке и бил нам навстречу из пулеметов. Я бежал рядом с товарищами, в голове была одна мысль — не отстать бы от своих, скорее бы добраться до перевала. Только вдруг почувствовал я, как обожгло правую ногу повыше колена и как сразу подкосилась она, будто подрезанная. Я упал без памяти. Что было дальше, не помню. Два часа, а может и больше, пришлось мне пролежать на снегу. Нехватало сил не только сдвинуться с места — даже просто пошевельнуться. Никогда в жизни не простывал я так. И удивительное дело — как ни трясло, как ни знобило меня от мороза, мне все сильней хотелось пить. Я стал лизать языком снег и почувствовал облегчение. Наши отошли далеко, где-то стреляли, и такой охватил меня страх, как будто остался я один на всем белом свете. Вдруг заскрипели чьи-то шаги. Это были наши батальонные санитары. Я боялся, что они не заметят меня, пройдут мимо, и начал изо всех сил кричать и звать на помощь. Я понимал, что голос мой ослабел и меня невозможно услышать. Однако ребята все-таки подошли ко мне, перевязали рану, уложили на волокушу. Дальше опять все спуталось, как в тумане. Очнулся я, когда меня доволокли до перевязочного пункта части. Там сделали какой-то укол, приладили к ноге вот эту самую деревяшку и на розвальнях отправили дальше, в полковой пункт, а оттуда — в медсанбат, а потом в какой-то распределитель.
В это время распахнулась дверь сортировочной, и за клубами густого белого пара показалась приземистая фигура фельдшера в яркорыжем полушубке, со спущенной на уши шапкой, с заиндевевшими ресницами и бровями. Он привез новую партию раненых.
Среди пяти матросов, поступивших в мое отделение 4 января с огнестрельными переломами бедер, двое внушали особенную тревогу — сорокалетний Федор Смирнов и юноша Петр Быстрецкий. Всем бросалась в глаза их неестественная бледность и худоба. У Смирнова концы раздробленного бедра никак не поддавались вправлению. Стоило путем длительных усилий сблизить их в правильном положении, как они тотчас же перекрещивались вновь, и один из отломков, зазубренный, потемневший и острый, неудержимо стремился высунуться в сухую, бескровную рану. Очистив от грязи отломки кости и удалив лохмотья разорванных, лишенных крови мышц, мы уложили Смирнова на вытяжение, чтобы растянуть бедро и дать возможность костям соединиться конец в конец. Этот способ лечения, прекрасный во всех отношениях, имел одно тактическое неудобство в условиях Ленинграда: раненые с продетыми через кости металлическими спицами и крепко скованные сложной системой блоков и веревочных тяг, оказывались надолго прикованными к постели. Во время воздушных налетов и артиллерийских обстрелов, когда других выносили в убежище, они под опекой дежурных сестер оставались на своих местах. Это не могло не отражаться на их настроении.
Быстрецкий, двадцатилетний юноша с вьющимися волосами, был доставлен в состоянии необычайного малокровия и с пониженной против нормы температурой тела. На бедре юного матроса зияла гноящаяся глубокая рана, через которую выступала наружу серая, сухая, сточенная болезнью кость. У раненого, казалось, угасли последние жизненные силы, и все считали, что дни его сочтены. Врачи перелили ему кровь, которая регулярно доставлялась в госпиталь из Ленинградского института переливания крови, засыпали рану дефицитным, но чрезвычайно модным тогда стрептоцидом и, вправив кости, наложили на ногу и туловище глухую гипсовую повязку. Оба раненых — Смирнов и Быстрецкий — были помещены в небольшую, самую теплую палату, по-соседству друг с другом. Их разделяла межкроватная тумбочка, на которой чья-то заботливая рука поставила вазочку с искусственной, почерневшей от копоти розой. Чтобы поднять их силы, врачи делали все, что могли: ежедневно вводили в вены сладкую, тягучую глюкозу, часто переливали кровь героических доноров-ленинградцев, поили хвойным настоем и соевым молоком и даже выписывали для них так называемое «санаторное» питание, включавшее в себя немного сливочного масла и сахара. Ничто не помогало. С каждым днем краснофлотцы слабели, с каждым днем становились беспомощней и малокровней. Но они не стонали, не жаловались, ни о чем не просили.
Их выдержка вызывала у всех чувство уважения, сострадания и той хорошей, бескорыстной любви, какая бывает на фронте между людьми, связанными общим великим делом. Старые, много видевшие на своем веку няни подходили к ним с материнской тревогой и часто, отвернувшись в сторону, смахивали рукавом халата горестные крупные слезы.
Смирнов без единой жалобы пролежал на вытяжении три недели. Он охотно принимал все лекарства и, как ребенок, наивно верил в могущественное действие каждого проглоченного порошка. Отломки кости перестали выходить в рану, но сращения между ними не произошло. В конце января раненому наложили большую гипсовую повязку, и с этого дня его самочувствие стало быстро улучшаться. Врачам казалось уже, что пора опасностей миновала.
Как-то раз перед вечером, во время обхода отделения, я заглянул в палату, где лежал Смирнов. Вокруг него собралась кучка выздоравливающих раненых, успевших с ним подружиться. Одни осторожно сидели на краю кровати, боясь неловким движением потревожить загипсованную ногу больного, другие стояли поодаль, прислонясь к стене и кутаясь в голубые вылинявшие халаты. Смирнов, с худыми руками, закинутыми под коротко остриженную голову, лежал на спине, мечтательно глядел в потолок и что-то рассказывал. Я остановился в дверях палаты. Сгущались сумерки.
— …Призвали меня на фронт в первый день войны, 22 июня, — не спеша рассказывал Смирнов. — Испекла мне жена пирогов, а сама ходит задумчивая, скучная, вот-вот заплачет. «Чего ты, говорю, Катюша, тоскуешь? Вот кончится война, разобьем мы начисто фашистов и вернусь я домой с боевым орденом. И будем мы жить лучше прежнего». — «Не вернешься ты, говорит, Федор. Чует мое сердце, не увидимся мы с тобой никогда». Жена у меня первая женщина в колхозе — писаная красавица и руки золотые. А вот в политике нет у нее настоящего, понимания: вместо того, чтобы ободрить мужа, поднять у него воинское настроение, она затвердила одно — не вернешься да не вернешься. Хватил я от волнения стакан водки (я редко ее пью, не тянет меня к ней), взял с собой сынишку, и пошли мы с ним прогуляться перед разлукой в березовую рощу, верстах в полутора от деревни. Хорошо у нас в Чапурихе летом! Многие, особенно городские, не понимают ни леса, ни поля. А для меня без них жизни нет. Это оттого, должно быть, что я сызмальства на земле, в деревне живу. За всю жизнь только два раза и пришлось мне уезжать из дому: когда еще мальчонком был, ездил я с отцом в Кинешму на ярмарку корову покупать да в гражданскую войну в Петрограде матросом служил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: