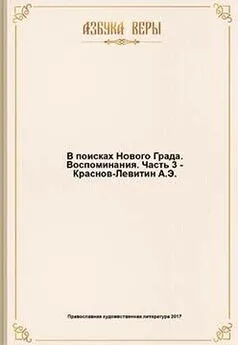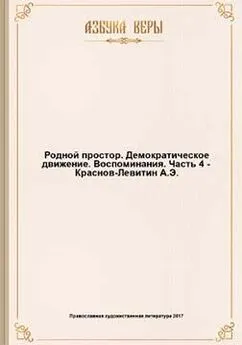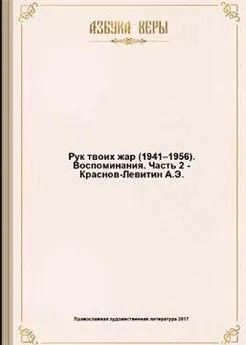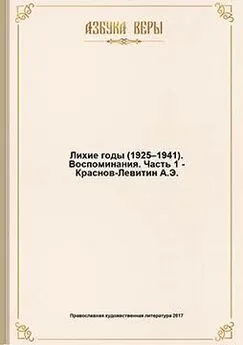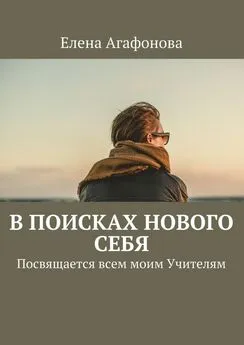Анатолий Краснов-Левитин - В поисках Нового Града. Воспоминания.
- Название:В поисках Нового Града. Воспоминания.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Краснов-Левитин - В поисках Нового Града. Воспоминания. краткое содержание
В поисках Нового Града. Воспоминания. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И его воспитатель под стать ему: Николай Иванович — расстриженный священник, тоже изгой: ни то ни се.
Комплекс Гамлета — основная черта Юрия. И рядом с ним его товарищ, друг детства Миша Гордон, так на него похожий. Все, что говорится о Мише, вполне применимо к Юрию. А о Мише говорится следующее:
«Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот…
Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его…
С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят?» («Доктор Живаго», том 1, стр. 20.)
Миша Гордон — еврей; его переживания осложнены национальным чувством. Юрий Живаго — русский, но все, что говорится о Гордоне, можно слово в слово повторить и о Юрии. Гамлет окружен людьми типа Полония и Лаэрта — людьми честными, но ограниченными. То же и Юрий. Еще в начале романа. Выволочнов — толстовец. Благородный человек. Но родной брат шекспировскому Полонию: «Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали». (Там же, стр. 51.)
А потом пойдут Лаэрты: люди смелые, благородные, но тоже невозможно ограниченные: революционеры, комиссары, военачальники. Комиссар Гинц, затем символическая фигура Погоревших — глухонемого, выучившегося говорить, но лишенного возможности понимать чужую речь, который является кандидатом в вожди революции. И в результате:
«Он (Живаго) опять поступил на службу в свою старую больницу. Она по старой памяти называлась Крестовоздвиженской, хотя община этого имени была распущена. Но больнице еще не придумали подходящего названия.
В ней уже началось расслоение. Умеренным, тупоумие которых возмущало доктора, он казался опасным, людям, политически ушедшим далеко, недостаточно красным. Так очутился он ни в тех, ни в сих, от одного отстал, к другому не пристал». (Там же, стр. 214.)
Это — лейтмотив романа; здесь как бы пунктиром намечена вся судьба доктора Живаго.
Во втором томе, где герои вступают в эпоху гражданской войны, все становится еще более четким и определенным. Снова Клавдии и Фортинбрасы.
Клавдий — это наш старый знакомый адвокат Комаровский, великолепно приспособившийся к новым условиям, плавающий как рыба в воде в мутных волнах гражданской войны. Он достиг своей цели: увез с собой Ларису, испоганил ее, отнял у нее дочь и бросил где-то на перепутье.
И Лаэрты. Герой гражданской войны Ливерий. Человек убежденный, преданный идее, идущий на гибель, но узкий и ограниченный до невозможности. И он — отражение других, более высоких, направляющих революцию оттуда, из Москвы. Таких же самоуверенных, негнущихся, фанатичных и ограниченных, тех, чьи портреты в каждом углу, чьим именем двигают вперед мир, о ком поют песни:
«Да здравствует Ленин,
Вождь пролетарский,
Да здравствует Троцкий
Вождь армии Красной».
И народ движется за ними сплошным потоком. Им противостоит Белая армия.
Нет ничего удивительного в том, что русская эмиграция потопталась около Пастернака, а затем его забыла — постаралась забыть — и изданный иностранцами на русском языке трехтомник лежит мертвым грузом на складах издательств и книжных лавок. Сторонник Белого движения не найдет в «Докторе Живаго» ни одной строчки в свою пользу, как не найдет и сторонник Красной армии. И белые, и красные — Клавдии и Фортинбрасы — одинаково чужды Пастернаку.
Чужды они и трем его любимым героям: Юрию Живаго, Ларисе и Павлу.
Про Ларису пишет Юрию жена Антонина Александровна:
«Перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас Урала я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне было трудно, и помогала мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу кривить душой, — полная мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она — чтобы осложнять ее и сбивать с дороги». (Том 2, гл. 13, стр. 484.)
Сбивать и сбиваться. И погибнуть где-то в лагерях, в неизвестности.
И Живаго. Вот как характеризует его соперник, все тот же адвокат Комаровский;
«Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку. Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы — насмешка над этим миром, его оскорбление. Добро бы это было вашею тайной. Но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно досконально. Вы оба страшно не по вкусу здешним жрецам фемиды. Товарищи Антипов и Тиверзин точат зубы на Ларису Федоровну и на вас». (Там же, стр. 488.)
И рядом с ними — третий, революционер и романтик Павел Павлович Стрельников, которому душно и мутно среди Клавдиев и Фортинбрасов обеих сторон. Прототип Ильи Габая и Анатолия Якобсона.
Романтики-самоубийцы. Пленные рыцари. Гамлеты, для которых весь мир тюрьма и родная страна — наихудшее из ее отделений. И единственный выход — смерть.
«Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новою броней мне стало.
Смерть, как приедем, подержит мне стремя,
Слезу и сдерну с лица я забрало».
«Доктор Живаго» — трагический роман. Он кончается гибелью трех главных героев: Юрия Живаго, Ларисы, Павла Стрельникова.
Треугольник романа — треугольник смерти.
Борис Пастернак тоже умер одиноким и никому не понятным. Но, как Гамлет, пораженный отравленным оружием, уходя, он бросил огненное слово обличения царству зла и лжи.
И здесь катарсис. И трагический оптимизм. После трагедии, после крови и грязи — свет.
И монолог под занавес:
«Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца».
И все это вспомнилось в жаркий июньский день — в день похорон Бориса Пастернака и моего друга Евгения Львовича Штейнберга.
Глава шестая
Живым и только до конца
Май-июнь 1960 года — самое тяжелое время моей жизни. Даже в тюрьме и лагере было легче. Устройство в школу, когда бы то ни было в дальнейшем после опубликования обо мне статьи в журнале стало невозможным. Но в это же время я лишился работы и в журнале. Анатолий Васильевич показал мне злополучную статью (я так же, как и в первый раз, о ней узнал последним). Со вздохом он сказал: «Вы понимаете, что после этого работа ваша в журнале невозможна». И спросил: «Что вы думаете предпринять?» А я и сам этого не знал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: