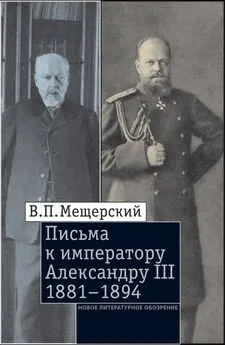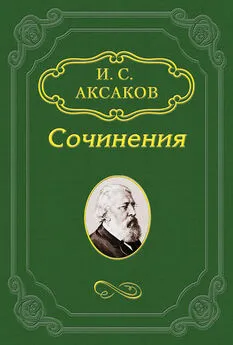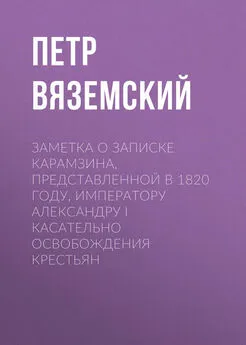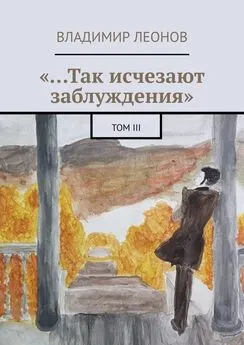Владимир Мещерский - Письма к императору Александру III, 1881–1894
- Название:Письма к императору Александру III, 1881–1894
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1011-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Мещерский - Письма к императору Александру III, 1881–1894 краткое содержание
Письма к императору Александру III, 1881–1894 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Эх, – сказал я, – в том-то и беда, что все нужно вмешивать Государя, когда положение гр. Толстого само по себе доверием к нему Государя так сильно, что он может вести дело сам и не вводить Государя dans la lutte des ministres [460]. Гр. Толстой слишком уступчив и слишком много придает цены своим противникам. Ну что такое протест Победоносцева в этом вопросе? Ничего ровно: повторение слов Манасеина, а Манасеина протест и того менее; ни тот ни другой этого вопроса практически не знают. Все их воззрения – теория и фраза! Гр. Толстому следовало бы их раскатать и не сдаваться ни на какие компромиссы, и Победоносцев сдастся немедленно. А вместо этого гр. Толстой дает себя закидывать словами и играет в деликатность. Никто больше меня не ценит и не любит Побед[оносце]ва, но в этих вопросах он только дух и слово отрицания, с которым и считаться нечего.
– Как вы правы, – ответил мне Пазухин, – я буквально то же самое говорил гр. Толстому. Он слишком мягок и слишком церемонится с ними. Но Бог даст, мы его подвинтим, и дело к осени оформится до известной степени.
10 июняСегодня провел у меня целое утро один из тех несчастных фанатиков своей мысли и своего дела, который бьется, бьется как рыба об лед, и на каждом шагу встречает непреодолимые препятствия. Вот годы, как он хочет осуществить правильные и постоянные торговые отношения России к Балканскому полуострову. Для этой цели он должен учредить общество, но учредить общество он не может без получения от правительства, то есть от Министерства финансов, известных на определенный срок льгот (по тарифу и по железн[ым] дорогам) и известной субсидии. М[инистерст]во финансов ему ответило, что Россия довольно переплатила за славянские земли, а московские купцы-фабриканты говорят, что в дело, не покровительствуемое правительством, соваться с капиталами или с товарами опасно.
Человек этот некто Мураневич. Он безусловно умен и замечательно настойчив. Репутации он хорошей. Ищет он не только выгоды от дела, но торжества своей мысли. Его мысль – завладеть для русской промышленности всеми рынками на Балканском полуострове, не боясь конкуренции с Европою, в уверенности, что рано или поздно, русские товары, как лучшего качества, вытеснят австрийские и немецкие.
Я его спросил: чего же он теперь добивается.
Он мне ответил, что теперь все его надежды и желания сводятся к одному, чтобы Министерство финансов внимательнее отнеслось к его мыслям и к его проекту, а для этого он мечтает о возможности и о счастье через [О. Б.] Рихтера представить свои соображения на Высочайшее благоусмотрение.
Под впечатлением такого глубоко фанатического преследования идеи, которое у нас русских так редко, я ему советовал написать историческую записку об этом деле, и так как он Рихтера не знал, то дать мне эту записку, а я ему ее передам.
Затем про себя я подумал, что если записка интересна, и того стоит, то быть может другой экземпляр, уже у меня переписанный, приложу к моему Дневнику. Может быть, когда Рихтер будет говорить с Государем об этом поистинно почтенном и несчастном страдальце, Государю будет удобнее, прежде чем высказаться, иметь историческое понятие об этом вопросе.
Но разумеется ни Рихтеру, ни Мураневичу ни звука не скажу о моей мысли [461].
Будучи русским человеком по происхождению, воспитанию и чувствам и следя за перипетиями так называемого восточного вопроса, то или другое разрешение которого должно иметь решающее значение на судьбу славянства и России, в сфере их взаимных отношений, я пришел к заключению, что сотни тысяч человеческих жизней и миллиарды рублей, затраченные на дело освобождения славян, пройдут бесследно, если результаты военных действий не будут закреплены мирными и культурными завоеваниями. С прискорбием и чувством горестного недоумения пришлось мне констатировать тот факт, что в этом отношении почти ничего не сделано. То, что называется культурным завоеванием, всецело зиждется на торговле и экономическом верховенстве, составляющем жизненный нерв международных отношений, тот прочный и непоколебимый базис, который, сообщая одним фактическую власть, заставляет других следовать по заранее намеченному пути политического слияния и единения и проникаться общностью жизни и единством воззрений. Но именно этого, т. е. торгового и экономического влияния России, в славянских странах совсем не заметно. Свобода, купленная ценою русской крови, дала славянам возможность и необходимость обзавестись собственным полным хозяйством, но южные славяне нуждались и долго будут еще нуждаться в посторонних помощниках и руководителях, так как в распоряжении вчерашних рабов и бесправных подданных неверных нет ни свободных капиталов, ни технических знаний, нет опыта, традиций. Эту задачу должны были взять на себя русские люди, родственные славянам по духу, крови, вере и преданиям отцов. Не немцы, не всесветные торгаши-англичане, чуждые славянам, их историческому прошлому и их культурным целям, должны стать насадителями культуры и торговли в славянских землях, не меркантильные и антиславянские тенденции должны одухотворять этот кропотливый и медленный, но верный труд, нет, – учителями славян в сердце экономического оборота должен быть русский народ, готовый принять на свое славное лоно своих младших братьев. А между тем шваб хозяйничает на пашне, в изобилии упитанной русской кровью, русским потом, и русские люди служат безмолвными свидетелями успехов авантюриста, поглощающего чужую жатву… Бороться с таким ненормальным положением вещей стало задачей моей жизни. Чтобы пополнить теоретические знания практическими сведениями, я решился в 1879 году ознакомиться непосредственно с румынским, болгарским, а также с другими рынками. Пожив в Румынии и убедившись на опыте, какой прекрасный сбыт могут там иметь русские товары, я отправился в 1880 году в Сербию, где у меня окончательно созрел проект об устройстве правильных торговых сношений между Россией и придунайскими княжествами. Сербский министр-президент Ристич, министр народного просвещения Алимпий Василич, митрополит Михаил и др. с готовностью откликнулись на мой призыв. Среди белградского населения возникла деятельная агитация в пользу этого общерусского, общеславянского дела. В самое короткое время составился значительный круг лиц, категорически решившийся отныне, отказавшись от всего немецкого, пользоваться всеми необходимыми для жизни продуктами только отечественного или русского производства.
Заручившись такими симпатиями и общесословным так сказать содействием, я обратился тогда с циркулярным письмом ко всем истинно-русским людям, в котором просил их оказать содействие возникающему русско-сербскому торговому делу и принять в нем прямое или косвенное участие. Вслед за этим письмом, не вызвавшим особенно осязательных результатов, я решился отправиться лично в Москву, как центр нашей торговли и промышленности. Там, думал я, в этой первопрестольной столице, где так много истинно-патриотических и русских сердец, умеющих чутко отзываться на все, что может повести ко благу России и к торжеству русских надежд и упований, – в Москве оценят по справедливости мой проект и быстро облекут его в реальную форму. Мои предположения были тем более вероятнее еще, что я, строго говоря, не требовал от соотечественников никаких жертв. Понимание своих собственных торговых выгод и немножко патриотизма для преодоления нерешимости, свойственной торговому сословию – вот все, что нужно мне было от тех людей, от которых, в юношеском увлечении, я ждал осуществления своей долго лелеемой мечты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: