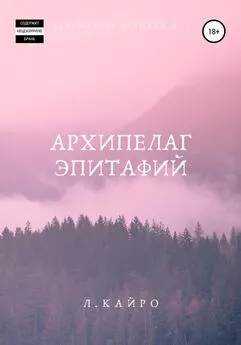Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг
- Название:Литературный архипелаг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое Литературное Обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-694-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг краткое содержание
Литературный архипелаг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Останавливаюсь же я на этом эпизоде потому, что, когда Блок предложил мне, а я принял его предложение провести ночь вместе на одной и той же койке, так как никто не знал точно, как долго придется нам здесь оставаться, я воспользовался своей шубой, подбитой белкой, «с чужого плеча», и нам было уютно и тепло. Александр Александрович чувствовал себя в этой обстановке как-то совсем необычно. Чувствовал как бы общность судьбы нашей. В это время никто не мог предсказать точно, что случится завтра. Он чувствовал какую-то особую свободу в выражении своих чувств и стал, в отличие от обычной своей манеры молчать, разговорчивее и, я бы сказал, менее замкнутым, более заинтересованным в том, чтобы понять самого себя. В своей речи, после кончины Блока, я упоминал, что он подробно мне рассказывал, до какой степени вырубовцы, или, вернее, распутинцы, были активнее и приятнее, чем царские бюрократы [204]. Блок был одним из секретарей комиссии по расследованию преступлений ниспровергнутого монархического режима [205]. Блок разделял их на две категории, о которых он мне подробно тогда рассказывал. Ему бросилось в глаза, что общение с Распутиным, и значит, с Вырубовой, посредницей между ним и императрицей, отражалось каким-то необъяснимым образом на личности того, кто общался с ним.
В отличие от них, люди, думавшие, и может быть, не напрасно, что неприязнь ко всей распутинской компании поднимет их в глазах Временного правительства, были, что называется, «клопиными шкурками». Это выражение вырвалось у него не напрасно. Во время нашего очень продолжительного разговора Блоку, который был ближе к стене, приходилось уничтожать не клопиные шкурки, а живых, настоящих клопов, которые проложили себе две-три дорожки по белой отштукатуренной стене сверху по направлению к нашей койке. Меня коробило оттого, что Блок так методично уничтожат клопов. Мне казалось, что ему не следует этого делать [206]. Но, вспоминая и глядя назад, я понимаю, что он недаром года два прошел все испытания на фронте помощником санитара и что уж на фронте нельзя было иначе бороться со зловредными насекомыми, как террором [207]… Так как здесь, в тюрьме, мы непосредственно соприкасались с самыми реальными проявлениями террора, я имел возможность наблюдать, как Блок относится к нему. Каждый вечер, а я уже был тут второй вечер, в камеру входил человек со списком в руке, называл фамилии обреченных, которых отправляли с Гороховой, в центре города, недалеко от Исаакиевского собора, прямо в Петропавловскую крепость на расстрел. Блок готов был не замечать этого, что было мне непонятно.
В бесконечном разговоре нашем одной из тем, естественно, была тема об отношении нашем к религиозным заветам. Блок вдруг сказал: «Помилуйте, Аарон Захарович, я вам говорю о людях, которые, как клопиные шкурки, высохли, они все церковники», — стараясь внушить мне, что религия не предохранила бы Россию от террора или злоупотребления насилием. На что я ему ответил, что, может быть, это и так, но я придерживаюсь нехристианской религиозной традиции, хотя она и считается более жестокой. Я до сих пор не мог примириться с фактом казни царской семьи. Все мы ведь воспитаны на произведениях Достоевского и Толстого, особенно Достоевского. Неужели же для нас все еще безразлично, что переживает человек в последнюю минуту перед казнью? Может ли кто-нибудь из нас не чувствовать своей вины за эту казнь? Блок приподнялся на локте и, по-моему, пропустил одного или двух клопов, не раздавив их, так он был, очевидно, поражен чем-то: «Неужели вы придерживаетесь иудейства как религии?» — «А почему бы и нет?» — ответил я. «Впервые встречаю такого человека. Знаете, Аарон Захарович, я должен вам признаться, что я был сам некоторое время близок к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса». И он подробно рассказал мне о людях, прежде скрывавших свое еврейское происхождение, но которые вдруг стали в это время необыкновенно активными и требовали от него, Блока, подписи в заявлении в министерство, в котором говорилось, что евреи не употребляют христианскую кровь в своих ритуалах. Он назвал несколько имен, из которых я кое-кого хорошо знал. «Помилуйте, — говорил я им, — вы же всегда отрицали свое еврейство, откуда же вы знаете, какие могут быть секты у евреев с изуверскими ритуалами? Тогда я увидел, что это какие-то ходячие манекены, как у Достоевского в „Записках из Мертвого дома“». Блок почему-то назвал Фому Исаевича из «Записок из Мертвого дома» [208]. Это каторжник-еврей, у которого все превратилось в форму, и он наслаждается тем, что выполняет роль, а за этим ничего нет — пусто. Блок продолжал: «А вот когда был процесс Бейлиса, евреи вдруг потребовали от Мережковских исключения Розанова из Религиозно-философского общества» [209]. — «Ах, Александр Александрович, в то время, когда вы почувствовали такую неприязнь к евреям, я понял, что мне необходимо объясниться с Василием Васильевичем». Как отнесся ко мне Розанов, как меня не отвергли, а, наоборот, хорошо приняли, — все это я рассказал Блоку и потом добавил: «Не правильнее ли всего попытаться выяснить словами, какие преграды стоят между людьми в их взаимопонимании?» На что Блок ответил: «Опыт стоит слов». — «Верно, — сказал я, — опыт, но правильно истолкованный. А ведь каждый истолковывает по-своему. А подумали ли вы о том, что судите обо всех евреях по тем, с которыми обычно встречаетесь, а они — особые евреи? Если бы я вам сказал, что составил мнение о русском человеке на основании знакомства со взломщиками и карманными ворами, с которыми провел несколько месяцев в тюрьме, стал бы судить о характере русского человека — вы бы сказали, что это злостный вымысел, и были бы правы. Евреев, о которых вы говорите, я не хочу ни в чем обвинять, я называю их продуктами разложения, а по конечным результатам разложения ведь трудно судить о начальном элементе». Александр Александрович слушал меня с необыкновенным вниманием, как если бы впервые в жизни вдруг заглянул в какое-то темное царство и увидел просвет. На Блока, очевидно, произвело впечатление исключение Розанова из Религиозно-философского общества, по настоянию главным образом Мережковского и Гиппиус. Между прочим, Мережковский был одним из первых, признавших в Блоке великого поэта, но впоследствии их отношения охладели [210]. Сам Блок голосовал против исключения Розанова. Я тоже был на этом собрании и рассказал Блоку о своей встрече с дочерью Розанова и своем разговоре с ней. Мне казалось, что Блок был рад найти собеседника, с которым можно было откровенно говорить. Мне же хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы побеседовать о задачах нашей философской академии.
И мы перешли на разговор о членах нашего совета. Конечно, прежде всего о Боре, Борисе Николаевиче Белом [211]. «Скажите, по совести, ведь вы занимаетесь философией, разве антропософия, под влиянием которой находится Боря, стоящая философия?» Я объяснил ему, что, будучи вышколен в немецком университете, я не высказываю мнения ни о какой философской системе, не познакомившись прежде с ней. Я мало знаю, что кроется под этим. Знаю только, что это какая-то разновидность теософии, какая-то мистика. Я сам раза два видел учителя Бориса Николаевича — доктора Штейнера [212]. Один раз на философском конгрессе, а второй — на докладе его в моем университетском городе Гейдельберге. Он меня не убедил, но я продолжаю интересоваться его учением. Я надеюсь, что если Борис Николаевич будет серьезно сотрудничать с нами и если наша затея с академией не лопнет из-за каких-либо внешних препятствий, то у меня будет случай глубже ознакомиться с его философией. «Ну конечно, — сказал Блок, — вы ученый немецкого закала, а я на это иначе смотрю. А кстати, доктор Штейнер не еврей?» Когда я ответил, что есть действительно евреи с такой фамилией, но что доктор Штейнер, по-видимому, смесь южнославянской и немецкой крови, Блок воскликнул: «А вы уверены, что он не еврей?» Я понял по тону его голоса, что для Александра Александровича еврей то же самое, что хитрый мошенник. «Если Штейнер околдовал Борю, так вернее всего, что он еврей-фокусник». — «Может быть, — ответил я ему на это, — у вас предвзятое мнение? Вы хотите сказать, что Штейнер — мошенник?» — «Вот, не подумал об этом». — «А могу ли я ответить откровенностью на откровенность? Знаете, Александр Александрович, не буду повторять о том, что другие говорят о вас как о поэте. Я просто скажу, что на меня вы производите впечатление немецкого романтика» [213]. Он очень обиделся: «Это, наверное, обман зрения». Сказал я это ему не случайно. В разговоре с Разумником Васильевичем я уже успел выразить это свое мнение. И тут вдруг подумал: а что, если меня уведут отсюда в Петропавловскую крепость? Это будет конец. И вдруг окажется, что за спиной Блока я выразил о нем такую ересь, и только поэтому мне захотелось убедить его, что в этом мнении ничего предосудительного нет. «Не знаю, что вы думаете о Генрихе Гейне, а я его очень люблю» — «Несмотря на то, что он еврей?» — «Да, он самый умный из всех евреев, которых я знаю» [214]. Говорили мы и об Иванове-Разумнике, конечно. Иванов-Разумник, вопреки тому, что преклонялся перед Блоком и считал, что критики, просмотревшие и не заметившие появления в литературе «Стихов о Прекрасной Даме», были неправы, тем не менее отдавал предпочтение Белому. Меня это очень огорчало. Например, когда в разговоре с Ивановым-Разумником я высказал такую мысль: «Почему в литературной среде, и русской, и за границей, писатели мелкого полета очень охотно злословят почти исключительно о современниках, не о Пушкине или Лермонтове, а о милых современниках? Почему даже нет такого слова в языке, как „добрословить“?» Иванову-Разумнику очень понравилось слово. «Это очень удачное слово, — сказал он, — надо его ввести, я скажу Борису Николаевичу». Не Блоку скажет, а Борису Николаевичу. И я сказал Блоку, что Разумник сложнее, чем кажется [215]. «У него мертвящий формализм», — заметил Блок. Я начал защищать Иванова-Разумника, говоря, что он еще развивается, что он человек не старый. Вот, например, он был чуть ли не первым, откликнувшимся на Шестова [216]. Александр Александрович опять посмотрел на стену — его внимание на момент привлек новопоявившийся гость: «Вот Шестов — типично! Почему Шестов, почему не Шварцман? Скрывает, что еврей». Я не мог удержаться, чтобы не процитировать слова Брюсова, которые я слышал от самого Валерия Яковлевича: «„Как Шестов, может писать только Шестов“. Какая же важность, какой у него псевдоним?» — «Ах, не говорите, — это важно, — это евреи охотно делают. Все-таки Лев Шестов звучит как-то, а Лев Шварцман — никто не станет читать». Так это вина не Шварцмана, а читателей, которые требуют, чтобы хороший писатель не назывался немецко-еврейской фамилией. И я ему рассказал, чего он еще не знал. В воспоминаниях Горького о Толстом (Толстой и Горький жили в Гаспре одно время) он пишет: «Помню о Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова „Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого“, он сказал, что книга эта не нравится ему. Заметили, что Шестов еврей. „Ну, едва ли, — недоверчиво сказал Лев Николаевич, — нет, он не похож на еврея; неверующих евреев не бывает. Назовите хоть одного…. Нет!“» [217]— «Как интересно, — сказал Блок, — так, может быть, они скрываются под нееврейскими фамилиями, чтобы верили их неверию? Очень странное явление». — «Почему? Иванов-Разумник — тоже псевдоним, а Борис Николаевич тоже не Белый, а Бугаев», — сказал я ему в пику. «Ну, Боря, о Боре и говорить нечего», — как если бы считал его сумасшедшим. Когда я добавил, что Жорж Занд тоже не Жорж Занд [218], он сказал: «Это женщины, это совсем другое. Женщины имеют право скрывать от читателей свое авторство, а то не будут достаточно их уважать». (Хочу тут признаться, что я довел до сведения Шестова много лет спустя после кончины Блока, как тот упрекал его за псевдоним. Было это в Берлине. Шестов тогда объяснил мне, почему у него такой псевдоним [219].) Во всяком случае, в этой беседе с Блоком открылось для меня нечто удивительное. Даже такие люди, как Блок, бродили как бы в темноте. Я не говорю об их отношении к евреям, не в этом дело… Это целый мир предрассудков. То же самое примерно, когда он отдавал предпочтение распутницам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
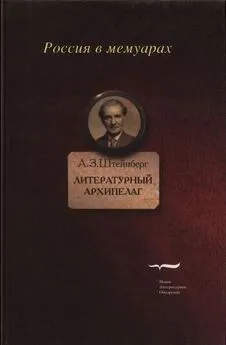


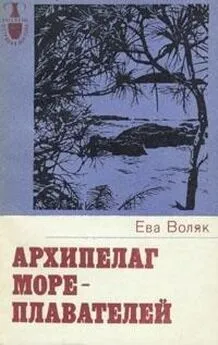

![Николай Побережник - Потерянный берег. Рухнувшие надежды. Архипелаг. Бремя выбора [сборник]](/books/1099462/nikolaj-poberezhnik-poteryannyj-bereg-ruhnuvshie-nad.webp)