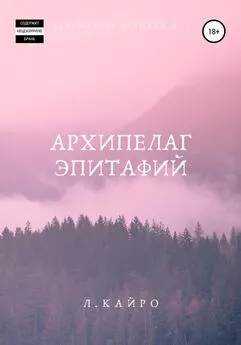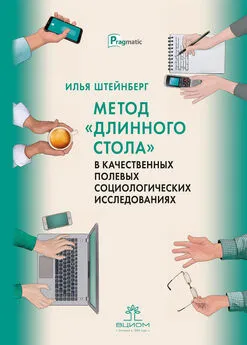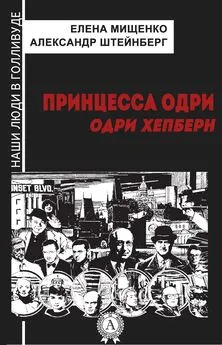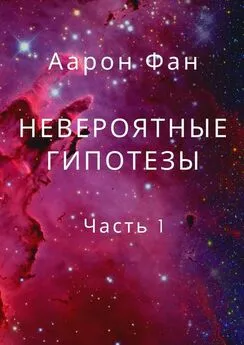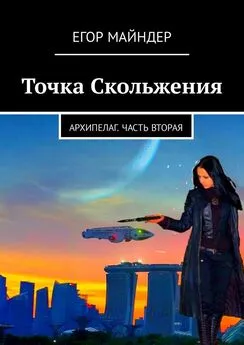Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг
- Название:Литературный архипелаг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое Литературное Обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-694-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг краткое содержание
Литературный архипелаг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Аудитория Константина Александровича состояла из людей, интересующихся искусством и знающих уже достаточно историю живописи, музыки и т. д. Прения на его лекциях происходили на определенном уровне. Обнаруживались иногда самородки-певцы с заводов Петербурга, как всегда и везде в России, как в «Записках охотника» Тургенева [418]. Музыкальность русского народа все еще жила и свободно заявляла о своем существовании на семинарах Эрберга.
Итак, секретарь Эрберга, сама ли или под внушением извне, составила анкету для статистического анализа и учета слушателей. Перед началом лекций присутствующим раздавали эти анкеты и просили заполнить их. При этом подчеркивалось, что если кто-либо не хочет ее заполнять, то это его добрая воля. Объяснялось, что нам, да и им самим, полезно знать, в какой среде мы находимся. Окончательных статистических сводок я никогда не видел, но слышал, что большинство наших слушателей принадлежало к категории людей, не имеющих среднего образования. Что сталось с этими окончательными сводками, я не знаю. Могу только высказать гипотезу, не слишком смелую, что они должны находиться где-то в архивах Петроградской чрезвычайной комиссии.
Определяя задачи метафизики, описывая ограничения, так сказать, законной территории метафизики в системе философских наук, я должен был постоянно бороться с преобладающим в аудитории агрессивным солипсизмом. Это была настоящая борьба. Было стремление масс увильнуть от общественной деятельности того времени. Чтобы облегчить свою совесть, они создали себе некий философский «тайник», в который они, как улитка в раковину, прятались и там сидели: «Нас никто и ничто не может тронуть». Это, пожалуй, было для них самым важным. Реакция на ужасы — бесчувствие. Реакция на дурную общественность — отрицание даже возможности общественности. Большинство моих слушателей были такого мнения. Возможно, что такие настроения были связаны с теми огромными общественными потрясениями, через которые мы тогда проходили. Мне представлялось, что именно такие философские школы, как наша, насаждали мудрость, или любовь к мудрости, выражающуюся словом «философия» в глубокой древности. И если бы не было революции, то наша работа оставалась бы только в рамках развития философской культуры в России. Знал я только, что наша работа не пропала даром.
Когда я оказался за границей, в конце 22-го, начале 23-го года [419], наши молодые философы довоенного периода Сергей Осипович Гессен [420]и Борис Викторович Яковенко [421], издатели «Логоса», отделения международного журнала «Internationale Zeitschrift für Philosophic der Kultur» на русском языке [422], встретившись со мной в Берлине, попросили меня дать им ряд статей для первого тома «Логоса» о докладах, прочитанных на семинарах в нашем философском содружестве за последние годы [423]. У Яковенко даже оказался список докладов, прочитанных у нас в философском содружестве, в котором числился и мой доклад «О трансцендентальном методе». А когда я спросил Бориса Викторовича Яковенко, откуда же они знают о нас и нашей работе, он ответил: «Не спрашивайте, слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». Наши эмигрантские философы каким-то неизвестным нам образом узнавали о том, что происходило в России, и использовали кое-какие материалы за границей.
III. Белый за границей
Неудачная попытка основать постоянный ежемесячный журнал дала мне возможность ясно понять, что мы все время находимся под наблюдением государственного охранного отделения. Я намеренно употребляю старый ненавистный для всей интеллигенции термин — «охранное отделение», потому что наша российская интеллигенция давно уже была заражена антиполицейской фобией. Кто бы ни говорил от имени полиции, от чьего бы имени полиция ни говорила, самый факт вмешательства ее в культурные, чисто интеллигентские дела казался поношением самых творческих стремлений интеллигенции. Раньше у нас создалась иллюзия какого-то минимального успеха в нашей борьбе за свободу мысли. Теперь, после того как история с журналом чуть не кончилась позором и скандалом, боязнь, что мы находимся под влиянием иллюзии, еще больше возросла. Смерть Блока, стремление Андрея Белого сохранить свои творческие силы за пределами Советского государства, мои личные переживания в связи с журналом — все это подсказывало вывод: пришел конец. Однако я не считал возможным открыто говорить об этом товарищам по работе, которые вложили в дело Вольфилы столько сил и столько надежд. Разумник Васильевич, один из умнейших представителей русской интеллигенции, связывал почему-то со мной, человеком молодого поколения, определенные планы на будущее. Я не мог его так просто огорчить сообщением, что я тоже собираюсь бежать, говоря языком самого Разумника Васильевича, «как крыса с тонущего корабля».
Я был не в силах этого сделать еще и потому, что Разумник Васильевич переживал в это время свою личную трагедию. Его единственный сын Лева попал под влияние дурной среды. Когда Лева учился еще в гимназии в Царском Селе, он гордился тем, что был сыном не большевика, а левого эсера. И когда гимназистов старших классов спрашивали, к какой партии они принадлежат, большинство отвечало, что они кандидаты или члены комсомола. Лева же Иванов громогласно заявлял: «А я левый эсер». Разумник Васильевич тогда говорил мне с гордостью: «Вы знаете, теперь, если они придут с обыском в дом, так уж неизвестно, из-за меня или из-за Левы!» Ему казалось, что Лева идет по стопам отца, по стопам русской интеллигенции. И вот, через какой-нибудь год, Лева попал в уголовную среду. Как сына известного писателя, его товарищи подговорили воспользоваться этим и набрать побольше денег в долг от имени отца. Упоминаю я об этом не случайно, потому что на примере Левы отразилось, «как в капле воды», — Разумник очень любил это выражение, — моральное затемнение всего поколения, легшее густой тенью на всю Россию. Лева, очень милый, приятный молодой человек, в один прекрасный день пришел ко мне и сказал: «Я сейчас из дому, Разумник Васильевич шлет вам поклон, он был бы рад, если бы вы могли дать ему немного денег взаймы», он назвал какую-то сумму, которую я и дал ему тут же. А через день-другой явился сам Разумник Васильевич. Он всегда-то был какой-то серый, а теперь выглядел совсем пожелтевшим: «Скажите, был у вас Лева на этой неделе? Он занял у вас деньги от моего имени?» — «Да, мелочь какую-то». — «Нет, нет, скажите, сколько? Я вас очень прошу, сколько?» Я понял, что это волнует его так потому, что он напал на след каких то мошеннических проделок. У меня сжалось сердце за него: «Разумник Васильевич, это не важно». — «Нет, вы ошибаетесь, это очень важно. Дело не в том, чтобы вам вернуть деньги, а в том, чтобы узнать, к кому он еще пошел». Оказалось, что он уже многих обошел, опорочив доброе имя Разумника Васильевича. Вскоре после этого я встретился с Аркадием Георгиевичем Горнфельдом, сотрудником закрывшегося журнала «Русское богатство», человеком своеобразным и добрым, который спросил меня: «Ведь вы большой друг Разумника Васильевича, как он все это переносит?» Лева и у него взял деньги. Разумник Васильевич настоятельно требовал, чтобы сумма, взятая Левой, была названа. Деньги он тут же вернул. «Вы знаете, — сказал мне Аркадий Георгиевич, — я Разумника Васильевича хорошо знаю, ведь он очень умный человек, но и очень гордый. Какое это для него должно быть несчастье. И не знаю, что мне делать. Посоветуйте». — «Ничего не делайте, я при случае упомяну, что вы просите ему кланяться». Деморализация, проникшая в одну из наиболее кристально чистых семей, носительницу заветов и традиций старой русской интеллигенции, сыграла в моей судьбе большую роль. Среди факторов и мотивов, побудивших и определивших мое желание покинуть Россию, деморализация единственного сына Разумника Васильевича — Левы — повлияла на мое решение. Но чтобы не огорчать Разумника, я дипломатически сказал ему: «Теперь, когда вы сообщили мне, что все хлопоты Бориса Николаевича, как он сам пишет вам в письме из Москвы, ни к чему не привели, что все двери для него наглухо заперты, что люди, которые любят и ценят его как писателя и желают сохранить его творческие способности, наотрез отказываются двинуть мизинцем, чтобы помочь ему уехать за границу легально, я решил и готов перейти границу нелегально вместе с Белым, если Борис Николаевич согласен». В письме Разумнику Борис Николаевич упоминал, что скоро появится у нас в Петербурге. И хотя там ничего не было сказано явно, Разумник и я понимали, что он готов перейти границу нелегально. Это означало нечто жуткое для нас. Мой добрый Разумник Васильевич, скупой на проявления чувств, как-то еще больше посерел. Только тогда я понял, сколько он пережил за это время. Нечего повторять, как любил он Белого, как много Белый значил в жизни Разумника Васильевича. По сравнению с судьбой Бориса Николаевича моя судьба была для него только «походцем», как говорят лавочники. Прибавлю здесь, что уже после моего отъезда сын Разумника был арестован по уголовному делу и сидел в тюрьме [424]. Выйдя из тюрьмы, он оказался сотрудником одного из отделов Чрезвычайной комиссии [425]. Сверхдьявольская история — «водевиль дьявола», по выражению Достоевского [426]. Сын Иванова-Разумника стал чекистом! Опускался со ступеньки на ступеньку!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
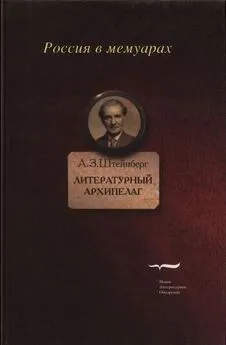


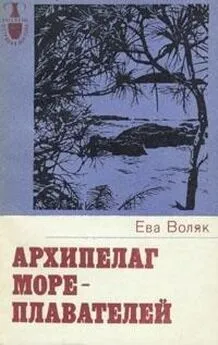
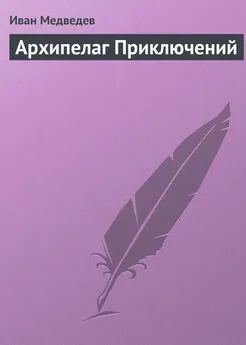
![Николай Побережник - Потерянный берег. Рухнувшие надежды. Архипелаг. Бремя выбора [сборник]](/books/1099462/nikolaj-poberezhnik-poteryannyj-bereg-ruhnuvshie-nad.webp)