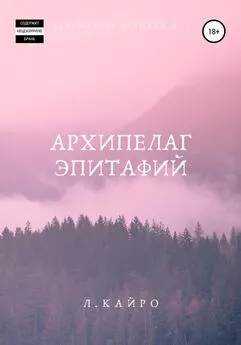Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг
- Название:Литературный архипелаг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое Литературное Обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-694-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг краткое содержание
Литературный архипелаг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Проскользнула, шурша, машина,
Красноватый мигнул огонек,
Четко отпечаталась шина,
Гулко прогудел рожок.
В ослепших блесках асфальта
Последний сигнал зари,
Напевает где-то контральто:
Любишь меня — умри!
И, как в старой сказке, снова
Пламя, пепел, дым.
Не будет, не надо иначе,
Жить и сгореть молодым.
4.5.25
Окно у меня без шторы:
На столе у меня вино.
Пускай нескромные взоры
Все видят — не все ли равно?
На столе у меня записка,
Последнее слово: Прощай!
Над столом склониться бы низко,
Уронить бы слезу невзначай.
Да окно, окно-то без шторы,
А вдруг как заглянет она?
К чему слова укоризны?
Душа и без слез видна.
Вздрагивают плечи от неслышного плача,
И дрожишь ты вся дробной дрожью.
— Неужели, неужели не будет иначе?
И путаться… всегда по бездорожью.
Ты сжала платок посиневшей рукою
И закинула руку к изголовью,
И спросила снова, прошептала с тоскою:
— Это ли не называется любовью?
Любовью? Нет! Это называется несчастьем
И называется еще: судьбою.
Ты напрасно потрясаешь звенящим запястьем.
Счастье не берется с бою.
Ко мне постучали в дверь
— Откройте! — Я открыл.
Старый скомандовал: — Руки вверх! Зверь! —
Я воздел руки к небу. Застыл.
Обшарили карманы. В письме
Я писал ей точно песню:
Нет мочи жить во тьме,
Решение мое ужасно…
На допросе спросили: — Почему же
Письмо осталось при вас? —
Я молчал. — Вам же хуже! —
Нависает последний час.
Я молчал. А что же сказать?
Что я убил по любви?
Что я рад смерть призвать
И прошлое потопить в крови?
Я молчал. Письмо я оставил себе
(И всего в нем десять строк),
Чтобы бросить вновь порочной судьбе,
Когда последний наступит срок.
6.V.25
Ты сидишь, растопырив ноги
И руки скрестив на груди.
Обжигают, мол, плошки не боги,
А если и боги — того и гляди…
Вознесешься и ты в поднебесье,
И ты воспаришь, как орел:
«Пусть я здесь, но не здесь я
И не я ль вездесущность обрел?»
Что верно, то верно, и верен
Доподлинно твой разговор.
Ты [нрзб.] не как все! Беспримерен!
Ну, совсем другой коленкор!..
Иль ты, отрицавший ступени,
И шаг, и движенье, и рост,
Предвосхитил всю радость терпенья,
Наступивши на собственный хвост?
Не ты ли из пальца-мизинца
Высосав всю мудрость пчел,
Нас одарил сладчайшим гостинцем
И нам басню, как быль, прочел?
Так сиди же, растопырив ноги,
И любуйся на седеющий пуп,
Понеже не бывает подмоги
Тому, чей корабль — мокроступ.
Приложение 3
На вторник 20 / X / 70
Имя Максима Горького было мне известно с ранних лет. Отец, приверженец виленского толка русско-еврейского Просвещения, нередко ссылался на Горького как на наглядное подтверждение того, что талмудическое предостережение против пренебрежительного отношения к беднякам и их потомству, какое от них произойдет, полностью сохранило свое значение и в «наше время» (начало нынешнего века). Таким образом, имя русского писателя, упоминавшееся все чаще наряду с именами Чехова и даже Толстого, стало для меня уже в детстве живым символом благочестивого демократизма и вместе с тем какой-то всечеловеческой правды. Мог ли я тогда, за отцовским «ветхозаветным» «старозаконным» столом, предвидеть, что меньше, чем через два десятилетия, мой жизненный путь приведет меня с берегов Западной Двины к встрече лицом к лицу с Алексеем Максимовичем в его квартире на Кронверкском в большевистском Петербурге.
Это произошло осенью 1918 года, вскоре после моего возвращения из германского плена и около года после Октябрьской революции. Оглядываясь назад, нельзя, однако, не отметить, что пересечение путей подготовлялось исподволь, задолго до того схождения.
С моей же стороны, образ «Максима Горького» обрисовывался все яснее и внушительнее почти с каждой новой книгой, выходившей под его псевдонимом. Я старался не пропускать ни одной и огорчался, когда критики отказывали ему в полном признании той или иной из его новых повестей или пьес. «Человек — это звучит гордо» — стал в моем сознании в ряд с излюбленными изречениями на языке Библии, а слова странника Луки «Полюбите нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит» отзывались в моем внутреннем слухе дословным заимствованием Соломоновых Притч.
Но схождение намечалось не только с моей безвестной стороны. Уже задолго до войны 1914–1918 годов, с ее огульным обвинением еврейского населения России в государственной измене, Горький стал задумываться о том, каким разумным способом можно было бы предотвратить заразу гибельных напраслин. Его личный опыт подсказывал ему, что стародавняя культура евреев могла бы оказать благотворное влияние не только на развитие одаренных одиночек, что он испытал подростком на самом себе еще в Нижнем Новгороде, но и на творческий дух целой страны и всей России. Если бы только удалось снести заставы предрассудков, если бы только, преодолев всеобщее невежество, удалось устроить очную ставку русского человека с неискаженным образом еврея! Значит, нужна особая книга о евреях для массового русского читателя. Горький неизменно верил — тоже по личному опыту — в магическую силу книги и сосредоточенного чтения, и с начатом войны 14-го года самой нужной книгой он стал естественно считать задуманный им Еврейский сборник. Ясно было, что такой книги о смысле еврейского существования без евреев не составишь, и вот это-то и сделало моего дядюшку, доктора И.З. Эльяшева, на время непосредственным сотрудником Алексея Максимовича.
Дядя мой, младший брат матери, был не только специалист по нервным болезням, но и родоначальник литературной критики на разговорно-еврейском языке (на «жаргоне», или идиш, как тогда говорили). У дяди тоже был псевдоним — «Баал-Махшовес», что означает попросту «Мыслитель». «Мыслитель» и «Горький» не могли не столкнуться: «Горькому», несомненно, горько было сопереживать бедствиям преследуемых, а «Мыслителя» возмущала именно эта горечь пассивного сострадания, и он при первом же обсуждении плана Спасательного Тома заявил, что по исконной еврейской традиции предпочтительнее быть в стане обиженных, нежели с обидчиками. «Вы, доктор, выходит, меня потому-то и обижаете нарочно, чтоб уже никакого сомнения не было, к какому стану я принадлежу…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
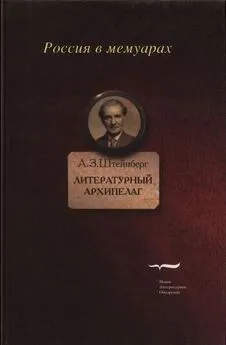


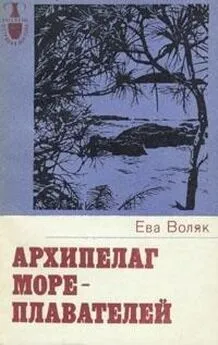

![Николай Побережник - Потерянный берег. Рухнувшие надежды. Архипелаг. Бремя выбора [сборник]](/books/1099462/nikolaj-poberezhnik-poteryannyj-bereg-ruhnuvshie-nad.webp)