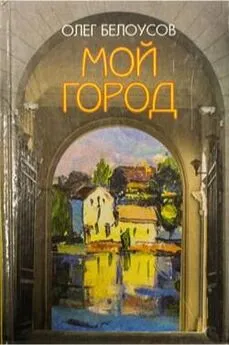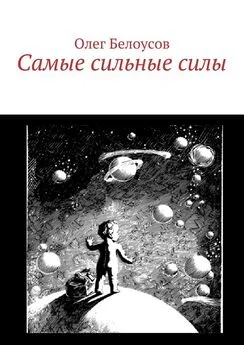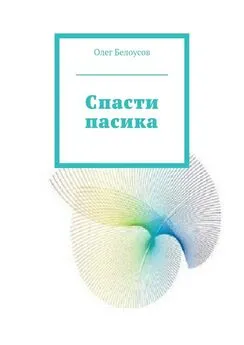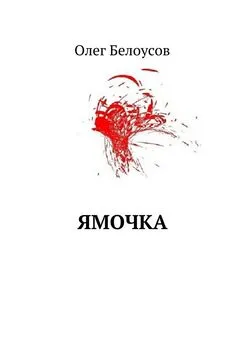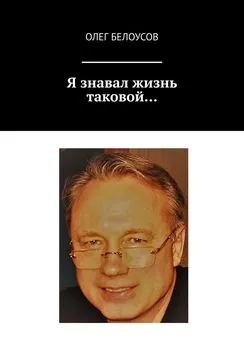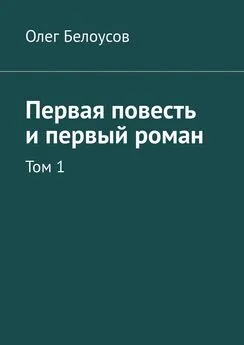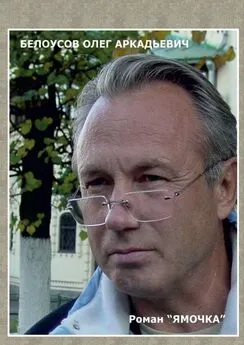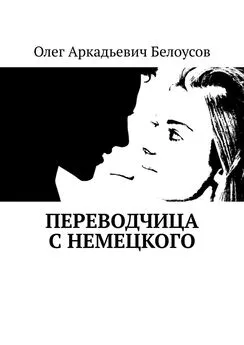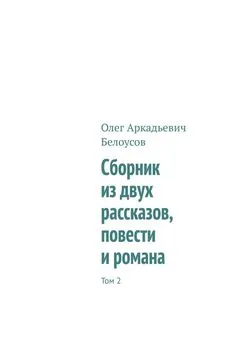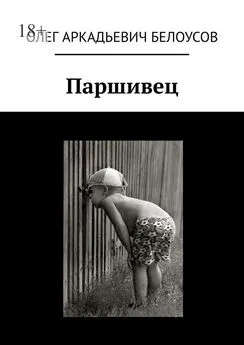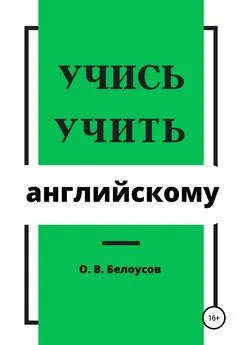Олег Белоусов - Это мой город
- Название:Это мой город
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Беларусь
- Год:2005
- Город:Минск
- ISBN:985-01-0525-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Белоусов - Это мой город краткое содержание
Эти главы были размещены на сайте
, который, к сожалению, прекратил свое существование после смерти автора. В бумажную книгу помимо публикуемой здесь мемуарной части вошли также воспоминания Олега Белоусова о его друзьях и коллегах.
Это мой город - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как правило, доказать что либо патрульному на шоссе невозможно – он там царь и бог, и воинский начальник. Но однажды все же удалось. Я въезжал в Минск по старовиленскому тракту. Там сплошь знаки «обгон запрещен». Впереди «телепается» какой то «москвичок». Понуро тянусь за ним, не обгоняя. Гляжу на спидометр – 40 км. Еду. Снова гляжу – 32… Ну, зануда! Дорога свободна, передо мной одиночное транспортное средство, которое движется со скоростью, при которой обгон дозволен. Обгоняю. «Москвичок» просыпается, летит за мной из окошка счастливый «мент» машет жезлом. Рядом подруга, перед которой патрульный решил покрасоваться. Диалог предельно простой,– Знак видели? – Видел!,– Ваши права… Подруга – сама недоступность, кавалер – сплошное высокомерие!
– Документы заберете в Гаи Минского района!
Приезжаю в Гаи Минского района. Объясняю ситуацию. Офицер глядит на меня рассеянно. Спрашивает, как был одет патрульный. Сам про себя недоумеваю, к чему бы это? Офицер просит написать, все как было. Пишу. Назавтра мне возвращают права, говорят: «Сержант, остановивший вас, будет наказан за… нарушение формы одежды». Вот когда понял для чего вопросы о том, как был одет мой обидчик. Фуражки-то на нем не было, на заднем сиденье лежала. Вот и не верь после этого в справедливость закона! Все правильно – то, что откровенно провоцировал нарушение – это ненаказуемо. То, что фуражку при этом снял – нарушение устава, за это извольте рассчитаться.
И смех, и грех!
Была еще одна замечательная встреча с Гаи, но, правда, не в Минске… А, жаль! Есть в Латвии такой город Бауска. Ехали мы с дочкой в Юрмалу. В город я влетел несколько чересчур быстро. Контроль стоял на выезде и бдил. Совершенно роскошный двухметровый патрульный ни на какие мои уловки не покупался. Молча заполнял протокол. Когда пишут протокол – разговаривать бесполезно, возврата не будет. Поняв, что лебезить поздно, смирился и просто так, ради праздного интереса спросил,– Командир, а как переводится Бауска на русский? – Бауска – это, снаете, как Рига на русски не переводится,– с неподражаемым латышским акцентом отвечает постовой. – Жаль,– говорю,– А я дочке рассказывал, что вот город Бауска, здесь все люди добрые, как бабушки… – гляжу, мой латышский супермен замер, не пишет, думает, потом рвет протокол и произносит: «Есшайте, дальше раскасывайте сваи скаски!».
Не поверите – в Латвии больше правил движения не нарушал!
ГЛАВА 29
В том месте, где сейчас находится гостиница «Минск» – был кинотеатр «Первый», а рядом с ним кафе мороженое. Когда мы переехали на Московскую – этот кинотеатр и кафе, были излюбленным местом семейных, воскресных развлечений. Мороженое подавали там в металлических вазочках и это было невероятно шикарно. Но, все же, никакое мороженое не могло «забить» предвкушение от киносеанса.
Первый фильм, который, помню, глядел в «Первом» – «Тарзан». Мама и тетя Клава Посчастева, мать моего школьного друга Вовки, наплевав на дисциплину, забирали нас с уроков в первом классе и, как проказливые школьницы, сбегали с нами в кино. Кино – было неизменным развлечением. Самым чудесным. «Тарзана», вместе с мамами, глядели раз шесть. Раз пять ходил на «Дона Сезара де Базан», причем, один раз ухитрился сбежать из очереди к зубному врачу. Рекорд же был установлен на великолепном фильме Курта Гофмана «Привидения в замке Шпессарт» – этот фильм смотрел раз двенадцать и не надоедало, хотелось глядеть еще, хотя знал каждый кадр наизусть.
«Первый» снесли, но вместо него появились другие кинотеатры: «Центральный», «Победа», «Радуга», «Смена» и др. Школьный день заканчивался, как правило, изучением газет – где, что идет. Если выпадало интересное название, или, кто-то из пацанов, рекомендовал, плотной стайкой ехали к черту на рога, лишь бы попасть на сеанс. Иногда платили за билеты, иногда уговаривали контролера, чаще просто «прорывались». Способов «прорыва» было много, кто-то отвлекал контролера, уводя его за собой, чтобы друзья успели проникнуть в зал, кто-то проскальзывал, пользуясь толчеей при входе, случалось, проникший в зал, открывал дверь, через которую народ выходил после сеанса, и, когда в зале гас свет, через эту дверь «прорывались» толпой. В темном зале найти рассыпавшуюся по свободным местам мелюзгу, было невозможно.
Когда, где-либо в Минске случались съемки, это был «праздник духа» – туда сбегали с уроков и толклись поотдаль, узнавая артистов, наслаждаясь командами режиссера: «Мотор!», «Съемка»! Не хочу сказать, что эта увлеченность кино, оказала влияние на выбор профессии – это было бы и не правдой, и выглядело бы чересчур механистически: мальчик любил кино, поэтому стал кинорежиссером. Нет, выбор кинематографа, как сферы деятельности, был достаточно случаен, хотя – те из сверстников, которые поступали во ВГИК, пользовались в моем городе огромным пиететом. Валера Рубинчик, например. О нем говорили, затаив дыхание: «Валера приехал!» – и это значило, что сегодня на «броде», или в скверике, где стоял бюст Грицевца, будет тусовка с «небожителем», рассказы о педагогах, нравах самого недоступного вуза СССР.
Поступать во ВГИК даже не пытался, понимал – это не по мне, а, может, просто побаивался. Но, «прорваться» в кинематограф, очень хотелось. Нужно знать юную журналистскую поросль шестидесятых годов,– те из коллег, кому удавалось попасть на работу в кино, считались корифеями, им по-хорошему завидовали. Происходило это от того, что престиж кинематографа был чрезвычайно высок. В те времена редакторами на киностудии работали Кулешов, Лужанин, Губаревич – люди известные, уважаемые, которые определяли политику «Беларусьфильма». Следует добавить, что впечатляло и поступление на высшие сценарные курсы в Москву – Алеся Адамовича, уже доктора наук, Владимира Короткевича, также приобретшего славу поэта и прозаика. Все это поднимало престиж кинематографа на неслыханную высоту.
Я работал в газете «Літаратура і мастацтва» с Ириной Письменной, про которую знал, что муж ее Роман Германович Романов – служит редактором на «Летописи», объединении документальных фильмов «Беларусьфильма». Ира была старше и опытней, писала пьесы, их, случалось, ставили в России. Подкатиться к ней с просьбой, познакомить с мужем было не легко, но, уж очень хотелось попасть в кино. Знакомство состоялось, как-то очень просто – Роман Германович встретил меня в небольшом кабинете, в котором почему-то толкалось и галдело человек десять совершенно разных людей. Проблемы у них тоже были разные и мне непонятные. Романов выслушал мои пропозиции, сказал, что-то вроде: «Это не кинематографично, это уже было до тебя, это вовсе из другой оперы». Я понял, что он хочет интеллигентно отделаться от назойливого неофита, поэтому говорит то, что обычно говорят и пишут старшие товарищи, умудренные жизненным и творческим опытом. Но… Вирус кино уже отравил мне кровь. Я стал ходить к Роману Германовичу на «Беларусьфильм», как на работу и каждый раз притаскивал две-три идеи фильмов. Продолжалось это почти год. Наконец, Романов не выдержал, а может, посчитал, что я получил достаточную подготовку, ошиваясь по студийным коридорам. Короче, предложил написать сценарий заказного, документального кино, того самого, которое называлось «болты в томате», ввиду того, что творчеством там и не пахло, нужно было сделать кино по социальному заказу. Мурыжили мой сценарий, довольно долго, заставляли переписывать, доделывать, «поворачивать» другим боком. Я искренне верил в необходимость этой работы, правда, замечал, что от переделок сценарий не становился лучше. Понимание того, что мне просто дурят голову, возникло на седьмом или восьмом варианте. К тому времени возникла фигура режиссера, дипломника ВГИКа Вадима Канунова, который согласился снимать фильм по моему сценарию, «по дороге» ненавязчиво дав понять, что он за него возьмется при условии, если я сумму гонорара разделю с ним пополам. Это было первое знакомство с режиссером – фигурой в кинематографе удивительно многообразной, поскольку, как потом выяснилось, все студийные службы работают на него, на режиссера. Он соглашается на сценарий, или отказывается от него, он его кромсает, переделывает, вносит коррективы и свое видение – он главный. От его «хотения» зависит если не все, то очень многое. Компания режиссеров в объединении документальных фильмов была удивительная. Были старики – Бэров, Цеслюк, Вейнерович, пришедшие в кино еще до войны, прошедшие с камерой по фронтам и партизанским отрядам; была молодежь, только что вышедшие из ВГИКа, или проштрафившиеся на других студиях: Владик Ефремов, Владик Попов и другие, мелькнувшие накоротке на беларусьфильмовском небосклоне и исчезшие на бескрайних кинематографических просторах родины. Ребята эти сформировали «золотой век» белорусского документального кино. Появление их на первом этаже («Летопись» располагалась на первом этаже студии) незаметно и тихо «обеспечивал» именно Роман Германович. У него были знакомые повсюду, «водился» он со многими талантливыми ребятами, умел сманить в Минск, обещая полноценную работу. Надо сказать, что обещания – выполнял. Не всегда, правда, его «протеже» были послушны. Ерепенились, да еще, как! Помню, Владик Ефремов сделал фильм о хлебе. Фильм очень интересный. Как говорили, фестивальный! Однако, не во всем идейно выдержанный. Было такое понятие. Фильм не выпускали, Владик резать его отказывался, а это прерогатива режиссера. Никто к пленке кроме него дотронуться не имел права. Оставалось либо уговаривать, либо строить мелкие и крупные пакости, чтобы взять режиссера измором. Минское партийное начальство выбрало второй путь. Ефремов остался без работы, уехал в Питер, зарабатывать на хлеб, но, что бы не быть уволенным в Минске по статье КЗОТ, каждое утро с Питерского самолета появлялся в приемной директора студии, «отмечался» и тем же самолетом улетал в Питер. Не удивляйтесь, друзья мои, в кино случаются вещи и почище, и позабавней – оно всегда было миром странным, со своими фантастическими историями, парадоксальными поступками, со своей мифологией. Например, до сего дня, из уст в уста передается легенда о том, как Сергей Лукьянчиков, бывший директор «Беларусьфильма», а некогда помреж, то есть мальчик на побегушках, был отправлен в Ленинград на поиски сбежавшего со съемок артиста. Известно было только, что у актера любовница в Питере и номер его машины. Прилетев в Питер, Сережа не придумал ничего лучше, чем обратиться в местное КГБ, и, разжалобив тамошних пинкертонов своей юностью и безысходностью ситуации, попросить их о помощи. Актера «взяли», когда он садился за руль, доставили в управление, где Сережа закусывал пряниками с молоком (пожалели мальчика). На вопрос,– Этот? – Сережа кивнул головой и их вместе с актером, под конвоем доставили в аэропорт. Не знаю, в каком состоянии были штаны у артиста, но, прилетев в Калининград (дело было на съемках фильма «Восточный коридор») он долго вздрагивал и терял дар речи, когда по служебной необходимости Сережа появлялся на площадке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: