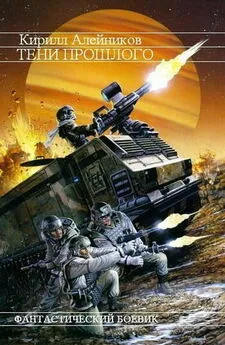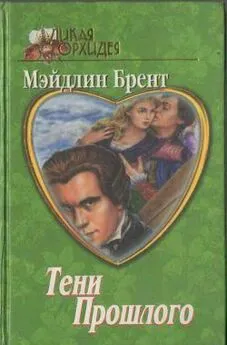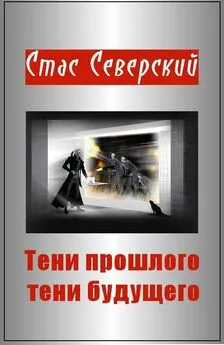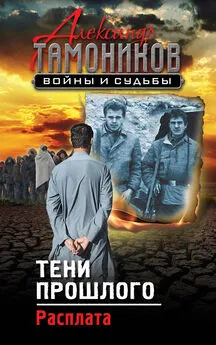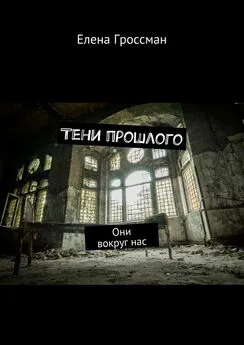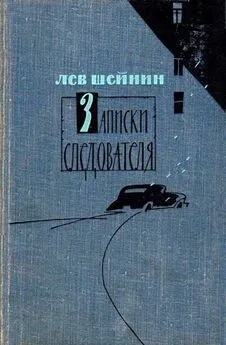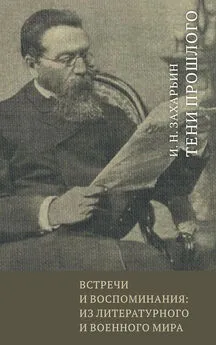Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания
- Название:Тени прошлого. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство журнала «Москва»
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-89097-034-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания краткое содержание
Это воспоминания, написанные писателем-христианином, цель которого не сведение счетов со своими друзьями-противниками, со своим прошлым, а создание своего рода документального среза эпохи, ее духовных настроений и социальных стремлений.
В повествовании картины «семейной хроники» чередуются с сюжетами о русских и зарубежных общественных деятелях. Здесь революционеры Михайлов, Перовская, Халтурин, Плеханов; «тени прошлого» революционной и консервативной Франции; Владимир Соловьев, русские консерваторы К. Н. Леонтьев, П. Е. Астафьев, А. А. Киреев и другие.
Тени прошлого. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Слепян познакомился со студентами и сошелся с ними. Его деятельность среди рабочих, естественно, возбудила их внимание, и они явились к нему на помощь. Сам же Слепян, в богословском отношении совершенно не подготовленный, решил пополнить этот пробел и поступил вольнослушателем в Духовную академию, ставши таким образом товарищем студентов, которые помогали ему в его деятельности среди рабочих, как и он помогал им в переносе проповеди в рабочую среду.
Местом личной деятельности Слепяна как была, так и осталась Новая бумагопрядильня, где помощь студентов дала ему возможность чрезвычайно расширить чтения для рабочих. Присутствие студентов Духовной академии давало Слепяну также известную защиту от подозрительности духовных властей. Деятельность Слепяна могла казаться странной, слишком не подходящей под «форму»: он, мирянин, вел дело, которое полагается вести священникам. Со стороны мирянина это имело вид чего-то сектантского. И действительно, вся проповедь Слепяна и его воздействие на рабочих были, по существу своему, священнические. Он возбуждал в рабочих религиозные стремления, призывал их к сознательной и деятельной религиозной жизни, внушал, что вся их жизнь — домашняя, семейная, товарищеская — должна быть соответственна их религиозным верованиям. 11едостаточно слушать проповедь или ходить в храм,
нужно жить по-христиански и эту христианскую жизнь распространять вокруг себя. Это составляло для рабочих целое откровение. Ничего подобного они раньше не слышали или не размышляли об этом, и, когда Слепян раскрыл им, что вера есть самое жизнь, рабочие действительно воодушевлялись и воскресали душой. Они бросали пьянство, начинали внимательно и с любовью относиться к женам и детям, отношения между товарищами становились дружелюбными, грубость и всякие ссоры искоренялись, и в общем вся жизнь этой огромной массы людей совершенно преображалась. Но не только личная деятельность их испытывала влияние живой веры, а также и коллективная. Так, например, у Слепяна и помогавших ему студентов явилась мысль устроить для рабочих общие розговены на Пасху. Само Воскресение Христово рабочие встречали вместе в храме — в обстановке, приличной празднику. Но, расходясь по квартирам, что они там находили? Множество из них жили в тесноте и грязи, часто вместе с людьми, которые и не думали ни о вере, ни о празднике или встречали его пьянством. Совместные разговсны, напротив, дали бы возможность христианам и разговеться по-христиански. Эта мысль была осуществлена с величайшим одушевлением.
Слепян выхлопотал у управляющего фабрикой просторное помещение для торжества. Совместными усилиями рабочих и студентов оно было должным образом разукрашено. Собраны были припасы для разговен. В этом случае было сделано гораздо больше, чем могли бы устроить рабочие одними собственными средствами. Слепян и студенты обратились за помощью к знакомым людям общества, сочувствующим их деятельности, и получили множество припасов для пасхального стола. Когда рабочие сошлись из храма на разговены, праздник удался на славу. Обширная убранная зала, хорошо освещенная, со столами, покрытыми пасхальными яствами, тысячная толпа мужчин, женщин и детей, но мере сил разодетых, все радостные, христосуются между собой; по рассказам очевидцев, это была картина прямо захватывающая. Старые рабочие, вспоминая, сколько лет они встречали праздник самым неподобающим образом, прямо плакали от умиления и благодарили Бога, давшего им увидеть этот истинно Светлый Праздник.
Точно так же по почину Слепяна рабочие устроили на Новой бумагопрядильне свое общественное богослужение. Разумеется, без Слепяна ничего бы не вышло, но и рабочие со своей стороны много помогли этому.
Управляющий фабрикой охотно уступил помещение под молитвенную залу, род часовни. С того времени как рабочие попали под влияние Слепяна, жизнь фабрики совершенно преобразилась. Исчезли пьянство, буйство, драки, воровство. Все это, понятно, было очень приятно и выгодно для управляющего, и он старался ничем не препятствовать новому направлению рабочих. Но молитвенную залу, хотя это и была не церковь, нужно было прилично устроить. В работе, конечно, почти все было сделано самими фабричными. Они же сумели откуда-то — от себя, от знакомых — понабрать много образов. Но все-таки по отделке комнаты нужны были значительные средства, и Спепян умел их добыть. У него вполне сохранились еврейские практичность и коммерческая сообразительность. За время деятельности среди рабочих он по всему Петербургу развил много знакомств. Его уважали, ему верили и сочувствовали. Он легко привлек пожертвователей, и молитвенный дом Новой бумагопря-дильни был готов очень скоро. Это еще более сплотило рабочих в их религиозной жизни, а также выдвинуло вопрос о том, чгобы Сле-пян принял духовное звание. Приглашение чужих священников на богослужения представляло много неудобств, хотя и приходилось к этому прибегать. Между тем Спепян казался как бы предназначенным в священники. Об этом в духовном ведомстве поговаривали уже давно. Его роль стала слишком крупна для простого мирянина. Рабочие нс только любили Слепяна и почитали его, но он сделался вполне их пастырем. Они обращались к нему по всем своим запросам, душевным или житейским, искали у него помощи по всем своим нуждам. Его мнение, слово являлись непреложным авторитетом. Его считали чуть не святым. Фактически он был пастырем своего духовного стада, и странным казалось, почему же он оставался простым мирянином. «Ряску бы надо, ряску*, — говорили в духовном ведомстве, и когда Слепян решился принять священство — его посвятили без всяких прекословий.
Итак, он сделался священником. Но у него не было храма, приспособленного к созданному им рабочему приходу, и он еще раньше стал думать об этом и начал приготовления к постройке особой церкви для Новой бумагопрядильни. Строил он ее на широкую ногу и благодаря своей способности привлекать пожертвования нашел вес необходимые, очень значительные, средства. Рабочие ему в этом деятельно помогали. Денег они, конечно, не могли собрать много, но, говорят, оказали очень существенные услуги при постройке. Во всяком случае, они не остались чуждыми предприятию своего священника и могли сказать, что в построенном храме есть добрая капля и их меда.
Вскоре после своего поставления священником Слепян, уже отец Сергий, приезжал в Москву с богомольчесхой целью — поклониться тамошним святыням, и, без сомнения, приезжал в Троице-
Сергиеву лавру. В Москве я и познакомился с ним. Он останавливался в скромных меблированных комнатах «Кремль», в центре города, но дешевых. Отец Слепян производил очень приятное впечатление простотой обращения и отсутствием всякого самомнения. Он много рассказывал о своих действиях среди рабочих, но все заслуги в успехах приписывал им. Их он видимо полюбил и хвалил чистоту их душ, их стремление к жизни верой, их искание святости. Он очень свободно и просто коснулся и их отношения к себе, приписывая их любовь к себе не своим заслугам, а их доброму, благодарному сердцу. «Они, — говорил он, — ценят малейшее доброе дело, которое им оказывают, и платят за него во сто раз большей привязанностью. Какой бы это был прекрасный народ, если бы с ним обращались по-человечески! Их душа проявляется уже в том, что они не любят думать о человеке дурно, а, напротив, склонны идеализировать всякого, у кого заметят хоть что-нибудь доброе. Вот хоть бы и я, — говорил отец Слепян, — ведь знаю себя: поистине — нищ есмь и окаянен … А они готовы мне приписывать чуть не святость». Вообще, видно было, что он любил своих рабочих уж по малой мере так же, как они его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: