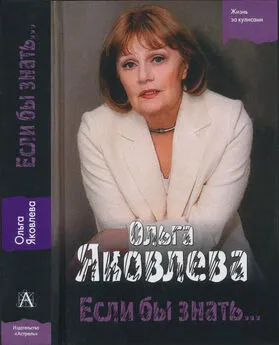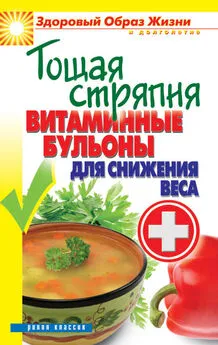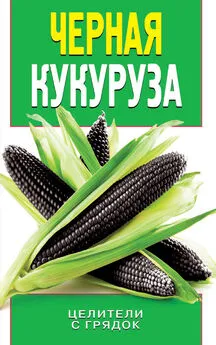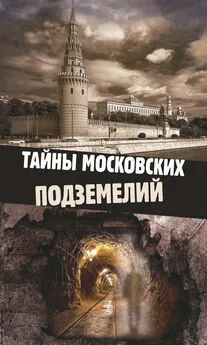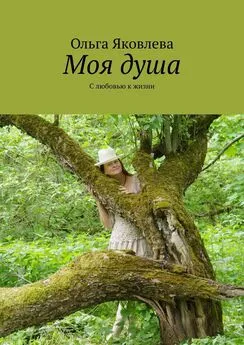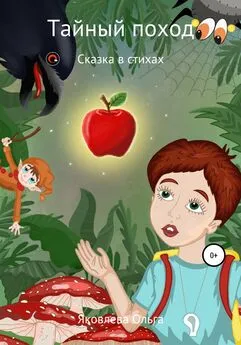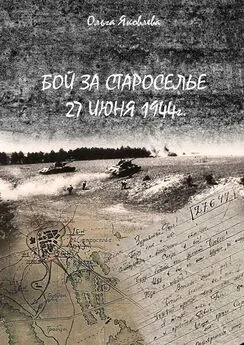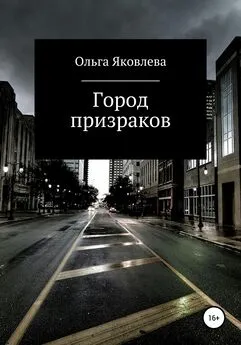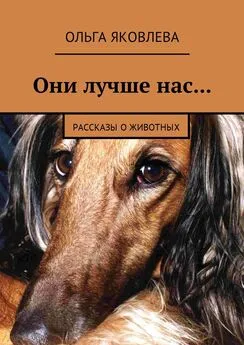Ольга Яковлева - Если бы знать...
- Название:Если бы знать...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACT, Астрель
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-17-021053-1, 5-271-07515-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Яковлева - Если бы знать... краткое содержание
Воспоминания? Нет. Исследование? Тем более. Чувство вины? Возможно. Разве не испытывают чувство вины те, кто потерял близких и продолжает жить? Я продолжаю жить, хотя жизнь моя ушла вместе с ними.
А может быть, все проще. Я хочу отдать дань тем, кому я была попутчицей в жизни. Это не они уходят — это мы умираем.
Если бы знать... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помню, когда потом, в 1987 году, мы были с Таганкой в Милане, Стрелер говорил: «Вы знаете, Любимов и здесь ультиматумы предъявлял, он всех здесь в Италии называл коммунистами. Видимо, с художником какие-то нелады, если он даже в некоммунистической стране всех называет коммунистами».
Так или иначе — многие актеры были недовольны Любимовым: «Бросил нас, уехал надолго, а нам не сказал, и не случайно остался, а готовился к этому», — такие настроения в труппе тоже были. И все это говорилось в кабинете Анатолия Васильевича. И те, кто фрондировал и уходил в «Современник», — они тоже говорили о том, что он их предал, уехав. Но Анатолий Васильевич на такие откровения отвечал одной фразой: «Это ваши отношения с Любимовым, и прошу мне и при мне не выражать недовольства по поводу Юрия Петровича». Он знал, что, выйдя из кабинета, они будут говорить совершенно иное. И поэтому подобные разговоры пресекал сразу же, чтобы не потакать этой лицемерной манере.
Маленькая деталь. Завтруппой каждые пятнадцать минут носила Анатолию Васильевичу чай на пульт — чего не делали за всю его жизнь никогда в других театрах ни его ученики, ни помрежи, ни другие службы. Здесь это делалось — с бутербродами и прочим. А потом та же подобострастная дама в своем кабинете, при всех, злобствуя и сквернословя, выражала к этому свое отношение. Видимо, реабилитируя себя за свое «угодничество». А, собственно говоря, — что она такое особенное делала? Приносила чай занятому режиссеру, который и в перерыве не выходит из зала.
Никогда я не видела такого подобострастия, стукачества — друг на друга, да и на Любимова, своего учителя, когда им нужно было что-то от Анатолия Васильевича: например, чтобы отпустили на съемку, чтоб отменил какие-то запреты сниматься на телевидении, которые наложило управление культуры.
Все хотели «бороться за идею» и вместе с тем пользоваться всеми благами — хотели все: и то, и другое. И третье.
«Бороться за идею хотят все, — говорил Эфрос, — но никто ради нее не хочет ничем жертвовать». Они вечно стояли на баррикадах и боролись за разные идеи. Но все разрешилось само собой, когда была провозглашена «гласность» — советский вариант «свободы слова». То, на чем, собственно, стояло их искусство, всяческие «намеки», «фиги», политиканство — уже никому не были нужны, и отпал весь набор оппозиционных тем. А самого искусства осталось, на мой взгляд, маловато.
Анатолий Васильевич, в ответ на просьбы некоторых актеров помочь снять запрет на их халтуры, иногда посмеивался: «Я вам этого не запрещал — идите к тем, кто вам это запретил».
И все же он звонил, скажем, на телевидение и говорил: «Я не знаю, что произошло со Смеховым, по каким причинам и почему его не допускают к съемкам, — но разрешите ему сниматься».
Что-то устраивалось. Но они продолжали фрондировать. Им надо было демонстрировать перед коллегами «форс-мажор». Таким «форс-мажором» был и уход из театра трех актеров.
Они ушли, эпатируя Эфроса и стремясь предстать героями перед всей «театральной общественностью». Они ушли в «Современник», и там на юбилейном вечере, в капустнике, распевали мерзкие куплеты об Эфросе, после чего Розов и еще несколько человек из приглашенных встали и вышли из зала.
Позже, вскоре после смерти Эфроса, Розов так вспоминал об этом в «Литературной газете»:
«…Мне не забыть, как на прекрасном юбилейном вечере, посвященном 30-летию образования театра „Современник“, трое таганских актеров, только что принятых в труппу „Современника“, пели на сцене пошлейшие куплеты, оскорбительные для Эфроса. Присутствующих на юбилее охватили стыд и чувство, будто все неожиданно оступились и угодили в помойную яму».
Факт общеизвестный.
Но мало кто знает, что, распевая свои куплеты со сцены — «на миру и смерть красна», — Смехов не стеснялся звонить завтруппой театра на Таганке и просить оставить его в репертуаре, дать ему возможность играть Барона в спектакле Анатолия Васильевича «На дне». Он ведь ушел не сразу, а только после премьеры. Хотел усидеть на двух стульях. И неблагозвучные куплеты петь в «Современнике», и работать у Эфроса на Таганке. Но Анатолий Васильевич тогда «показал ему шиш» — все вместе, мол, не получится: и слыть «гонимыми учениками Любимова», и играть в спектаклях Эфроса. И никакой «политики» в их поведении не было — обычные актерские дела: они хотели все сразу. А сейчас Смехов и сам заявляет в интервью, что политика его не интересует.
В «Современнике» вряд ли об этом знали, и вся эта фронда недорого стоила. Анатолий Васильевич тогда написал письмо художественному руководителю «Современника» Галине Борисовне Волчек примерно следующее:
«Галя, не увлекайтесь внешними эффектами, чтобы повысить свой рейтинг (как сейчас говорят): актеры, которые в кабинете, в личных разговорах со мной предавали своего учителя, отзываясь о нем не слишком лестно, — что сильно отличается от того, что звучит в их „общественных протестах“, — точно так же предадут и Вас».
Письмо было вывешено и на доске Таганки.
Так и случилось: они ушли из «Современника» довольно скоро. Это, видимо, уже в крови — был бы повод, а страсть рваться на баррикады и заниматься политиканством всегда найдет себе выход.
Но удивительно не это, а то, что и Давид Боровский, с которым Анатолий Васильевич работал довольно плодотворно чуть ли не с 1972 года, который оформлял «Сказки старого Арбата», затем «Дон Жуана», — и тот, подогреваемый всеобщими страстями, ушел вместе с тремя актерами в «Современник». Он почему-то вбил себе в голову, будто Эфрос дал согласие властям принять театр раньше, еще в декабре. И с этой позиции его совершенно нельзя было сдвинуть. Да Анатолий Васильевич не очень-то и пытался — он уважал чужое мнение, даже если оно ошибочное. За пару лет до того он предлагал Давиду оформлять «Живой труп», но Боровский отказался — только потому, что в юности видел в Киеве в этой роли Романова. Поэтому не считал для себя возможным приступить к работе над «Живым трупом». Где Романов, где Толстой? Где МХАТ?.. Но Анатолий Васильевич отнесся к этому вполне уважительно.
Много странного в те времена случалось.
В Театре на Таганке работал тогда талантливый режиссер, по общему мнению — художник-новатор. Первые его спектакли на московской сцене прошли довольно успешно, вызвали большой резонанс.
На Таганке он ставил свой спектакль в течение чуть ли не четырех лет. Менял составы, декорации, заказывалась другая мебель, клавесин, фисгармония, постановочная часть без работы не оставалась, — короче, спектакль никак не выпускался. Естественно, Эфрос торопил выпуск: давайте, давайте, чего уж там, делайте, выпускайте, начинайте еще что-то вслед за этим. Но в ответ возникала странная реакция (и она подогревалась со стороны): то власти запрещали, не давали работать, а теперь, мол, то же самое делает Эфрос — подгоняет выпуск, «торопит художника».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: