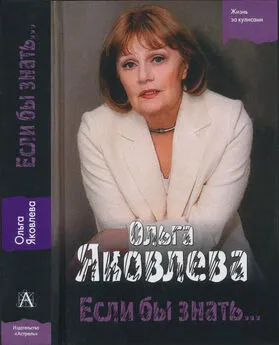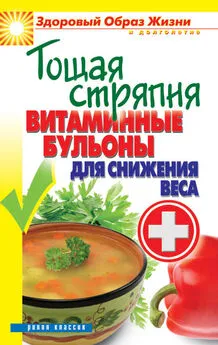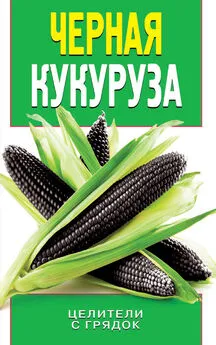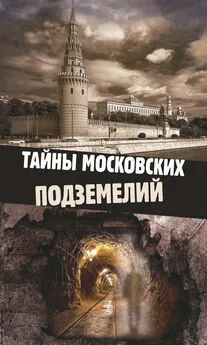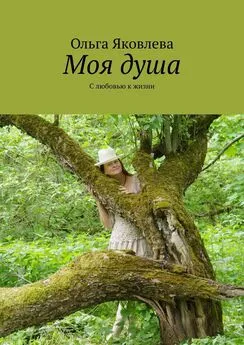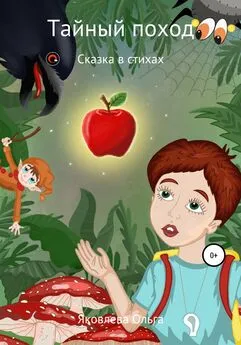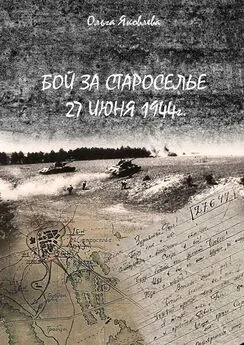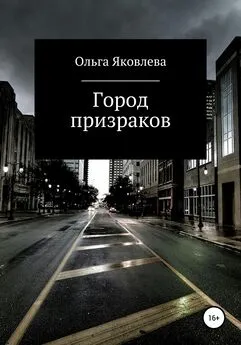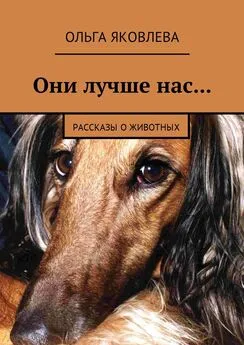Ольга Яковлева - Если бы знать...
- Название:Если бы знать...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ACT, Астрель
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-17-021053-1, 5-271-07515-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Яковлева - Если бы знать... краткое содержание
Воспоминания? Нет. Исследование? Тем более. Чувство вины? Возможно. Разве не испытывают чувство вины те, кто потерял близких и продолжает жить? Я продолжаю жить, хотя жизнь моя ушла вместе с ними.
А может быть, все проще. Я хочу отдать дань тем, кому я была попутчицей в жизни. Это не они уходят — это мы умираем.
Если бы знать... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ну как же не „именины сердца“! На них только для разноса Эфроса рассчитывали, а они гаркнули на всю Ивановскую, то есть, простите, на всю Европу, что не только Эфроса, а всю „так называемую“ надо развести с Любимовым и окунуть сами знаете во что! Спасибо, друзья! А то мы уж сколько лет трудимся без успеха, чтоб изолировать от надежд на понимание и поддержку свободного мира увертливую эту фронду! Вот кому бы не глядя отдать под команду и тех, и этих! Эх, недооценили вовремя талантливых людей…
…И дай Бог, чтобы нам в этой истории не навязали обманом скверные роли».
Это пишет «человек со стороны», в статье-панегирике — к 20-летнему юбилею Театра на Таганке. Трудно ее заподозрить в пристрастии к «обидчику» Таганки — Эфросу. И хотя путаницы и неточностей в ее статье хватает, но основное она не могла не увидеть объективно: не от того защитнички защищали Таганку. Не от тех. А напали на такого же (если не более) гонимого, всю жизнь угнетаемого чиновниками.
И многие из упомянутой выше «так называемой» вовсе и не молчали — воспылав собственным праведным гневом и подхлеснутые гневным окриком из-за бугра — набросились-таки дружно тогда на «падшего» режиссера. Дружно подталкивая его к могиле…
Навязали-таки им «скверную роль». Не убереглись. Но об этом после…
Об этом письме я узнала лишь в 1987 году, когда приехала в Париж на гастроли, уже без Эфроса. Мне дали прочитать его в «Русской мысли». К этому времени все подписавшиеся были вне Парижа.
Подписали известные деятели культуры, эмигрировавшие из СССР. Среди них И. Бродский (он-то никогда Эфроса не знал), М. Ростропович (что он вообще во всем этом понимал?), Г. Вишневская (которая все время требует, чтобы русский народ каялся за то, что она вынуждена была уехать. За такой отъезд в свободу надо еще благодарить. А не заставлять всех каяться.)
Прямо-таки продолжатели великого дела Максима Горького: с кем, мол, вы, мастера культуры? Он тоже когда-то — только с Востока на Запад — взывал к совести, правда, совсем по другому поводу: что же вы, мол, нос воротите от такой прогрессивной советской власти?
Уже потом, когда снова была в Париже, я разговаривала с некоторыми «подписантами». Спрашивала: как же так? Да вот, говорят, Любимов насел. Подписались, так сказать, дружным коллективом.
У каждого, видимо, были свои причины подписать это письмо. Кто-то, опять же, из оппозиции к советской власти, кто-то по дружбе с Любимовым, кто-то служил на «Немецкой волне» или на радио «Свобода», или на «Голосе Америки» — свои причины были у каждого.
При встрече я спросила у Максимова: «Разве вам не ясна была суть? Как же вы могли вот так, не думая, подписаться под нападками на гонимого художника? „Защищая“ от него того, кто, будучи оппозиционером, всегда был в согласии с этой властью?» — «Да… Ну — время такое, ну — дураки…» — невнятно отвечал мне Максимов. У него самого была застарелая личная обида, еще из прошлого, когда на Малой Бронной снят был с репертуара его «Жив человек». Максимов тогда решил почему-то, что это сделал единолично Эфрос.
И так, в общем, все. Какие-то оценки и выводы делались из далекого-далекого прошлого, из всяких обид и застарелых комплексов.
Когда я прочитала статью, мне подумалось, что этот призыв к «восстанию интеллигенции» организован был Любимовым. Хотя с таким же успехом автор, И. Баскина, могла заподозрить в авторстве Л. Круглого (бывшего актера Эфроса). Но это всего лишь предположение.
Лев Круглый. Я не могу себе представить: неужели и Леву Круглого нужно было убеждать в том, что Эфрос — вне интриг, тем более политических?
Когда Эфрос умер, Лева в ночь накануне похорон написал статью, в которой он, по сути, противоречит тому, что подписал вместе с «дружным коллективом». Во всяком случае, теперь он, слава Богу, вспомнил, что Анатолий Васильевич всегда приходил в театр только для того, чтобы работать.
«Чтобы лучше понять случившееся, я должен рассказать о том, чему я был дважды свидетелем, как Эфрос входил в новые для него театры (в театр на улице Чехова и в Театр на Малой Бронной). Конечно, очень во многом ситуация была другой, но… он хотел поступить так, как поступал в тех двух случаях, свидетелем которых я был: не устраивать никаких реорганизаций и болезненных революций, а запустить в работу сразу несколько спектаклей, стараясь занять в них все более или менее жизнеспособное и творческое из того, что есть в труппе…» с тем, чтобы «…быстро установить творческие, взаимно заинтересованные отношения».
И тем не менее Лева настаивает: «Я никоим образом не отказываюсь от того публичного заявления, которое было опубликовано в „Русской мысли“…» — то есть и после смерти Эфроса не захотел он отмести свою версию о том, что Эфрос был связан с властями. Что это кремлевская интрига, в которой Эфрос был якобы замешан: «…И вот в это время началась многоходовая и многоцелевая интрига властей. Не забудем, что все театры, как и вообще все в Советском Союзе, принадлежало им под вывеской государственное. Таганку, оставленную волей тех же властей сиротой, предлагают Эфросу. Великолепный ход с их стороны. Во-первых, все видят их, властей, заботу о брошенной Любимовым Таганке: (ведь он, Любимов, сам уехал, никто его не выгонял! — всячески подчеркивают власти…» (Ах это власти подчеркивают, не Лева… Но ведь это действительно правда, что никто его не выгонял! — О. Я.) «…А то, что ему запретили три его программных спектакля, так ведь это в порядке вещей.) Во-вторых, все видят, что Таганку поручают не какому-нибудь ничтожеству, а великолепному режиссеру, да к тому же имеющему репутацию „гонимого“…» (Только зачем же Лева взял это слово в кавычки? — О. Я.) «… когда Эфроса выгнали из театра на улице Чехова (имеющего жуткое название театр Ленинского комсомола), и уже готовилось его назначение в какой-то провинциальный театр под власть местного обкома партии……то Любимов одним из первых бросился спасать своего коллегу…». ( Об этом уже был рассказ. — О. Я.) «…и не без его усилий Эфроса оставили в Москве…» ( Вопрос о «высылке» не стоял, и решение о переводе на Бронную начальство приняло до визита наверх режиссеров-защитников! — О. Я.)
Да, в этой своей статье Круглый явно старается смягчить категоричность и резкость «заявления восьми» в 1984 году. Он произносит много хороших и искренних слов об Эфросе и «театре Эфроса» — «явлении», которое «по своему масштабу сопоставимо со всем наиболее значительным в русском театре». Старается вникнуть и в те внутренние и внешние причины, которые заставили Эфроса принять решение перейти на Таганку. И все же он упорно подчеркивает, что Эфрос попал на Таганку благодаря интриге властей: «…попался на эту грязную наживку. Согласился». И лишь чуть-чуть смягчает: сознательное «предательство» заменяет наивным «непониманием»: «Пишу это не для того, чтобы обвинять или защищать (теперь уж не до этого…) …а для того, чтобы внимательный читатель лучше представлял эту отвратительную и, теперь уже понятно, трагическую ситуацию, возникшую лишь отчасти и по вине Эфроса, но больше, как теперь я думаю, по непониманию им всех сторон ситуации. Не забудем, что тогда ни у кого и в мыслях не было, что Любимов когда-нибудь вновь может стать во главе своего детища…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: