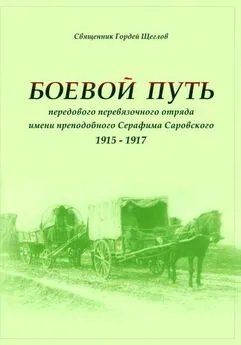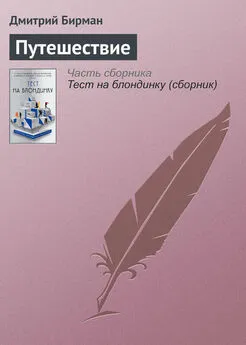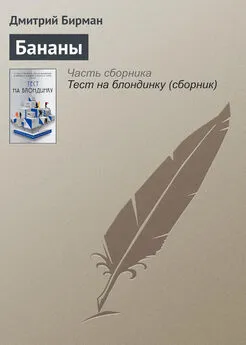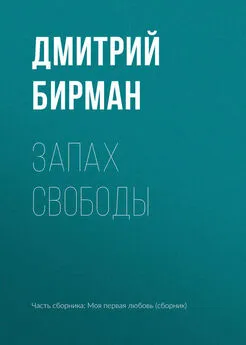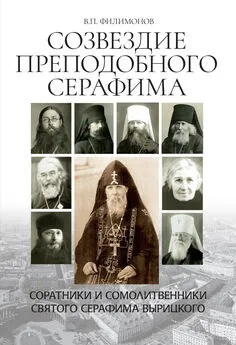Серафима Бирман - Путь актрисы
- Название:Путь актрисы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ВТО
- Год:1962
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Серафима Бирман - Путь актрисы краткое содержание
Я назвала эту книгу «Путь актрисы» и стремлюсь к тому, чтоб содержание ее соответствовало заглавию, то есть чтоб эта книга была рассказом о тех переменах и сдвигах в сознании человека на сцене, которые неминуемо возникают в нем в связи с переменами и сдвигами действительности.
Самонаблюдение и самоиспытание имеют огромное значение в профессии драматического актера — только поэтому ставлю мою сценическую жизнь в центр этого рассказа.
Говоря о себе, думаю, что говорю и о многих людях сцены, за это историческое пятидесятилетие переживших два совершенно разных отношения к зрительному залу: первое — как к «публике», второе — как к родному народу.
Мне думается, что самым верным будет, если напишу об этом так, как оно случилось со мной, тем более, что я шла и сейчас иду дорогой всех.
Путь актрисы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нашелся все же критик, который со всей безапелляционностью заявил, что все в роли Марии Эстераг у меня высчитано, распределено {277}по полочкам, все взвешено мной, все технично. Ну, пусть это утверждение всей своей несправедливостью ляжет на то место, где у человека совесть!
Я люблю зрителей и стыжусь своих штампов, закоренелых сценических привычек. Не для «механики» я пошла на сцену. Работаю в театре только для того, чтобы научиться жить на сцене. Это мое основное стремление, «сквозное действие» моей жизни и моей работы. Стою за упорный и умный труд, стою за совершенное овладение техникой своего дела. Белинский сказал: «Нет искусства без вдохновения, но нет его и без техники».
Рассудочность, расчетливость и холод — те качества, какие в своей статье мне приписал критик, — отвергаю.
У меня не переизбыток, а недостаток хорошей техники.
Я чту ту внутреннюю и внешнюю технику, к какой призывал нас Станиславский, которая, освоенная актером, приносит свежесть безыскусственности.
Веру свою в свой способ работы защищаю.
Три момента огромного внутреннего напряжения были в роли Марии Эстераг.
Напряжение постыдно выразить на сцене напряжением же.
Мы, актеры, избавляем себя и зрителей от перенапряжения, если правильно оценим предлагаемые драматургом обстоятельства, если поймем различие повседневного и чрезвычайного, если освоим природу правды повышенных чувств. На двадцатый — тридцатый этаж подняться можно только по лестнице, а затем по двадцатому и тридцатому этажам ходишь так же, как по комнате первого этажа. Совершенно бессмысленно, безумно пытаться с первого этажа попасть в двадцатый без лестницы. Строишь эту лестницу, доискиваешься до логики фактов, до оценки данным человеком данного события.
Я говорила уже, что три катастрофических события в жизни Марии Эстераг надлежало мне передать со сцены, а для этого пережить их.
Первый: Мария Эстераг узнает от товарища сына, что Пали в тюрьме. Перед Марией Эстераг — газета, в ней объявление фашистской полиции и фотография сына. Не помню точно слов, а газету эту очень хорошо помню. В ней была наклеена карточка В. Р. Соловьева, прекрасно игравшего «моего сына». Помню и свое, в этом моменте, сценическое самочувствие: я ясно ощущала, что внимание зрительного зала обращено на меня (я не галлюцинирую), и в то же время вся была охвачена острым ощущением страшной беды, что стряслась «сейчас», «здесь» над моей головой. Над чьей «моей?» Над головой Марии? Или над моей головой? Чьему сердцу так больно в неумолимых когтях горя? Не знаю. В эту минуту у меня с Марией Эстераг только одно сердце. Оно {278}испытывает печаль и радость: ведь если на сцене плачешь по тому поводу, по какому плачет являемый тобой человек, слезы легки и актеру на сцене и зрителям в зале. Широко раскидывается тогда и перед актером и перед зрителями горизонт жизни, так просторно тогда мыслишь. Тогда раздвигается тесный круг личных интересов. Это происходит одновременно и с актером и со зрителем.
Вот у меня в руках — газета…
Как мне — актрисе неожиданно «узнать» сына? Как за него испугаться? Как по данному поводу привести в движение волю? На репетициях мы приучаем свою волю действовать для достижения целей «образа», указанных пьесой и признанных нами. Мы не дрессируем, а приучаем, привлекаем волю и чувства «манками» воображения. Я приучила себя любить четырехугольник фотоснимка, соединила себя кровными узами с этим именно лицом. Я просила эту карточку в газете напечатать неясно, как и те фотографии, которые «я» отдавала прятать другу Пали, чтобы скрыть от гестапо все улики. Вот «я» раскрываю газету и вижу в ней объявление полиции: обещают награду тому, кто признает этого безымянного человека. А человек в газете — мой сын, мой Пали!
На одном из спектаклей бутафоры неверно сложили газету, и вместо лица любимого сына на меня глянула модель мужского полуботинка. Секунда растерянности… Но — мгновение, я привела себя в порядок и с нежностью произнесла, глядя на полуботинок: «А глаза? У кого еще такие глаза?»
Второй момент: камера следователя. Следователь хочет, чтобы Мария Эстераг открыла инкогнито узника. Я очень волновалась в этой сцене. Но волнение было моим, а не испытываемым моим сценическим образом.
Я очень благодарна прекрасной оперной артистке Коре Евгеньевне Антаровой. Она заметила как-то, что в эпизоде допроса Марии Эстераг фашистским следователем я плакала. «Разве старость — всегда бессилие? — почти гневно спросила она меня. — Знаете ли вы, какой твердости совесть старого и честного человека? Нет, Мария Эстераг не будет плакать перед фашистским следователем, как бы она ни волновалась. Слезы — это капитуляция».
Я поняла, в чем ошиблась. В сцене допроса я предалась сочувствию трагическому положению матери, вместо того чтобы действовать от ее имени, то есть вступить в рукопашный бой со следователем, отстаивать инкогнито сына. Марии Эстераг свойствен темперамент боевой, без вдовьих флеров. Мария Эстераг не верит демаршам фашистского следователя. Не верит в гуманность палачей. Понимает, что это свидание с заключенным сыном — ловушка, подстроенная следователем-фашистом. Об этом {279}«я» догадываюсь. «Я» — человеко-роль, та, что явилась как результат соединения меня «актрисы» с образом пьесы.
Сейчас войдет Пали!.. Опускаюсь, не глядя, на табуретку: ноги не держат. Смотрю на дверь. Она открывается: на пороге — сын. «Мой» сын! Двадцать лет «мы» не видались.
Я — актриса и Мария Эстераг не розно, а вместе переживаем встречу с сыном, бесконечно любимым… Из «тридевятого царства, тридесятого государства» идет он ко «мне». Шаг!.. Еще шаг!.. Еще!.. И он рядом. Я ли откидываюсь назад или это Мария Эстераг теряет сознание? И я и она — не расплести нас двоих. Как в тумане лицо Владимира Романовича Соловьева. И он «двоится». Тот ли он, кого встречаю я в фойе театра, на репетициях, или это действительно Пали Эстераг, гораздо менее мне, как мне, знакомый, но беспредельно близкий «мне» — Марии Эстераг? Надо ли трезво разбираться в этом? Кликушество, истеричность омерзительны на сцене. Но благословенны секунды светлого сценического самозабвения, полной поглощенности «образа». Вся радость жизни на сцене — в таких секундах. Для таких мгновений и стоит быть актером.
«Я» знаю, что не смею обнять сына, не смею прильнуть к нему, знаю, что нам не перекинуть моста через двадцатилетнюю разлуку. Сын мимикой лица дает мне понять, что у «глазка» двери — фашистский следователь, что он наблюдает за мной. Я должна казаться чужой своему Пали.
Живу всеми этими чувствами, но каким-то уголком сознания все же помню: в зале зрители, чувствую их глаза на себе, ощущаю, что зрители верят мне. Есть в зале и те, что не «принимают» меня, и это я чувствую как актриса…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: