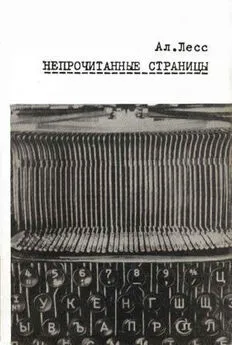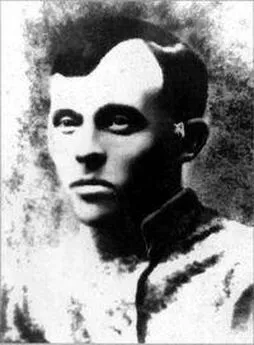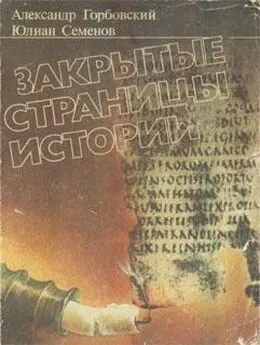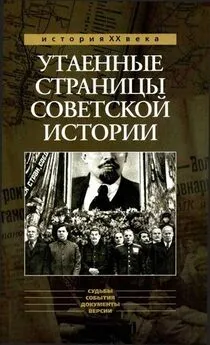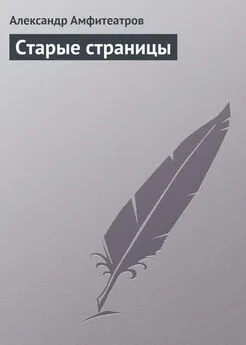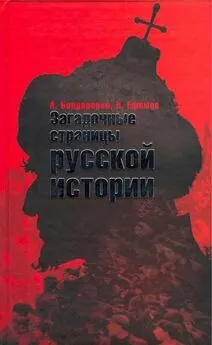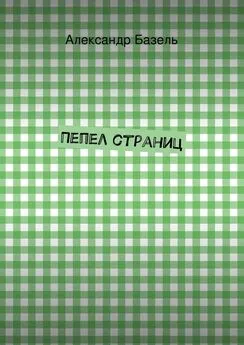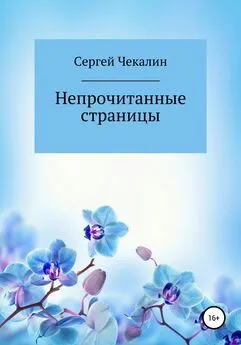Александр Лесс - Непрочитанные страницы
- Название:Непрочитанные страницы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1966
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лесс - Непрочитанные страницы краткое содержание
Непрочитанные страницы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В лагере, во время обыска, сумке была отобрана вместе с записками. Старожилы лагеря с трогательным сочувствием отнеслись к моей литературной утрате и обещали, что так или иначе, а сумку мою разыщут,— рассказывает Злобин.— Предполагалось, что она хранится у гестаповского фельдфебеля-«тряпичника», в его особом закутке при лагерной тюрьме. Но кто же отважится проникнуть в нору гестаповца? За это сложное дело взялся учитель из Мцхеты Клементий Гигинейшвили
Много можно рассказать о твердом и мужественном поведении Гигинейшвили в плену, о том, как он заботился о заключенных товарищах, как освободил от кандалов посаженного в карцер военврача первого ранга Боборыкина, как устраивал свидания разъединенным в одиночках друзьям, чтобы те могли сговориться перед допросом о единстве показаний.
Под предлогом уборки помещения Клементию Гигинейшвили удалось добраться и до заветного помещения гестаповского «тряпичника», до его тюремной комнатушки — конторы, в которой хранились отнятые у пленных запретные вещи... Здесь на стене он увидел советскую санитарную сумку.
Она?.. Гигинейшвили отпорол ремешок, которым по краю была обшита сумка, Между подкладкой и стенкой он обнаружил листки — около сотни мелко исписанных страниц. Надо было успеть до утра зашить сумку двойным сапожным швом, чтобы похищение бумаг осталось незамеченным.
На следующий день, идя за обедом в «каменные бараки», Гигинейшвили засунул себе под белье мою записную книжку. Не говоря мне ни слова, Гигинейшвили увлек меня в уединенный пустой барак и там таинственно извлек из-под платья припрятанные записи.
«Ваши?» — спросил он у меня.
И, не слушая слов благодарности, Клементий пустился с ведром на кухню получать обед для тюрьмы.
Злоключения плена и частые повальные обыски, производимые эсэсовцами, заставили меня передать мои бумаги на хранение товарищам, ведавшим конспирацией в подпольной организации советских военнопленных. Они хранили в разных местах карты и компасы для побегов, антифашистские листовки и даже подпольный радиоприемник. Эти товарищи зарыли в землю в лагере и мои записки.
Судьба моя в плену сложилась необычно. Когда меня, как одного из организаторов антифашистского подполья, стало разыскивать дрезденское гестапо, мои товарищи, чтобы избавить от расстрела или повешения, внесли меня на носилках в санитарный поезд и в числе людей, тяжело больных туберкулезом, отправили в лагерь, расположенный на территории Польши. Разумеется, я не брал с собой свои записи, так как ехал а неизвестность: то ли к свободе, то ли на уничтожение в числе безнадежно больных.
В январе тысяча девятьсот сорок пятого года, при взятии войсками Красной Армии Лодзи, я был освобожден из плена и снова служил в действующей армии, работая в дивизионной газете.
В июле сорок пятого года, демобилизовавшись, я приехал в Москву, Прежде всего я решил закончить начатый до войны исторический роман «Остров Буян». После него я рассчитывал приняться за книгу о Великой Отечественной войне и плене. Ужасы, пережитые мною в фашистском плену, казались мне тогда неистребимыми в памяти. Я был уверен: достаточно, чтобы я оказался за письменным столом и передо мною лежала бы стопа чистой бумаги, чтобы воскресли и стали зримыми картины прошлого.
Однако при первых же попытках придать литературный характер воспоминаниям о войне и плене я столкнулся с тем, что многое стерлось в памяти и поблекло. Мне явно не хватало моих записок, которые исчезли.
Необходимо заметить, что после освобождения Минска Красной Армией друзья, считавшие меня расстрелянным фашистами и не знавшие об отправке меня в Германию, сообщили семье, что в Минске скрыты мои записки. Жена ездила в Минск, но найти их не смогла, хотя ей и был дан план чердака и места хранения... Пришлось примириться с мыслью, что записки погибли безвозвратно.
В сорок шестом году, на собрании в Союзе писателей, ко мне подошел мой товарищ, военный писатель Петр Гаврилов.
«Степан, ты, кажется, был в плену?» — спросил он.
«Был»,— небрежно отозвался я, продолжая слушать речь, помнится, Николая Асеева.
«Ты знаешь, у меня такой яркий материал о плене! — с увлечением сказал Гаврилов.— Интереснейшие записки!.. Может быть, ты сможешь помочь разыскать автора? Генерал Мансуров, под начальством которого я служил на фронте, прислал мне эти записки с Урала, где он живет теперь. Мансуров получил их в Германии при освобождении какого-то лагеря и требует, чтобы я непременно нашел автора...»
Признаюсь, я слушал, нехотя отрываясь от содержания речи очередного оратора, и если бы не настойчивость Гаврилова, я бы попросту прошел мимо вопроса об этих записках, но Гаврилов настойчиво продолжал шептать на ухо о своих неудачах и трудностях:
«Понимаешь, я пошел в адресный стол... Мне дали восемь адресов разных Баграмовых, но среди них — ни одного Емельяна...»
«Что-о?! — чуть ли не закричал я.— Как ты сказал?.. Повтори!..»
«Мне нужно найти Емельяна Баграмова,— ответил Гаврилов.— Это автор записок... Ты его знал?..»
«Петька, милый!.. — обняв его, радостно воскликнул я.— Это мои записки!..»
Надо сказать, что записки свои с прощальным письмом, обращенным к жене и сыну, я зашифровал этим псевдонимом. Он был известен моей жене. Направленные, как было адресовано, в Союз советских писателей, эти записки могли быть признаны только моей женой по псевдониму «Емельян Баграмов». Упоминать же свое настоящее имя я не мог, опасаясь, что записки попадут в руки фашистов.
Вместе с Гавриловым мы тотчас же пошли к секретарю Союза советских писателей Д.А.Поликарпову, у которого я и получил свою записную книжку, когда-то зарытую в землю в Германии.
Прошло еще года два.
Работая над окончанием романа «Степан Разин», я с женой жил в Доме творчества имени Серафимовича под Москвой.
Однажды в Дом творчества приехал белорусский писатель Кулаковский. С ним я познакомился за обеденным столом, где он оказался нашим соседом. Узнав, что он из Минска, моя жена стала расспрашивать его о том, как восстанавливается разрушенный фашистами Минск, и попутно рассказала о своих неудачах с поисками моих записей.
Я кстати присоединил свой рассказ о том, как через Петра Гаврилова ко мне возвратились записки, спрятанные в Германии.
«Баграмов?» — перебил меня Кулаковский.
«Да нет, тут дело не в фамилии... Она вам ничего не скажет»,— досадливо отвел я любопытство соседа и заключил свой рассказ.
«Все?» — спросил Кулаковский.
«Да, теперь все...»
«Так вот, Степан Павлович, на днях к поэту Максиму Танку, как к члену республиканской избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет, пришел школьник Юзик Валиковский. Он принес записную книжку, найденную им в бывшем лагере военнопленных. Танк прочел книжку и показал мне, Мы читали ее вместе в поезде по дороге в Москву. Она глубоко взволновала нас. В Союзе писателей мы спросили, был ли такой член союза — Емельян Баграмов? Такого не оказалось. Ну, мы и оставили эту записную книжку для прочтения в редакции «Нового мира». Ошеломленный сообщением Кулаковского, я на следующий день помчался в Москву.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: