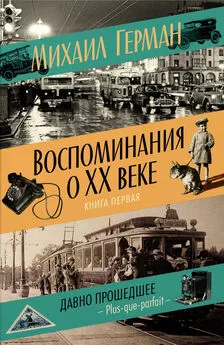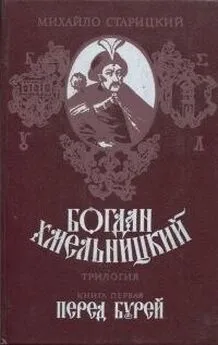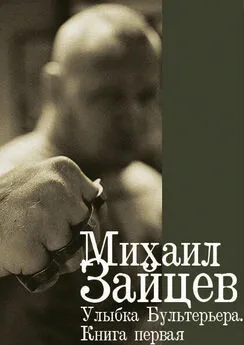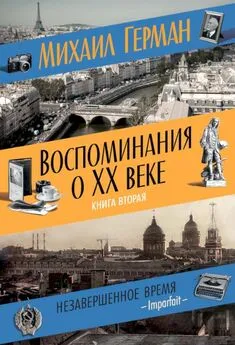Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14212-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание
Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.
Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он уже жил в отдельной квартире на Надеждинской (улица Маяковского), полученной с великим трудом. В кабинете был грубый дощатый пол, плохонькие обои, но все равно он напоминал интерьер с картины XIX века. Книг не было. Они стояли в специальном чуланчике — «библиотеке». Усталая, от времени потускневшая ампирная мебель, два просторных письменных стола, разумеется, без пишущей машинки. Для Всеволода Николаевича не было понятия элегантности и уюта в традиционном смысле слова. Любимый его диван («Когда-то я влюбился в него, как в женщину», — говорил Петров) стоял ободранный, без обивки: в этом фантоме хозяин различал сквозь нынешнюю жалкую видимость его былой блеск.
Но вот чудо: и достаточно нарочитое — рафинированно бедное — убранство кабинета, и этот придуманный, архаически изящный почерк, и голос хозяина с привычно изысканными интонациями — все это воспринималось на удивление естественным.
Вот уж поистине человек стиля. У него было немало трудных качеств: надменная отстраненность, высокомерие, настойчивое желание постоянно подчеркивать свою — и генетическую, и интеллектуальную — барственность. Но отними у него хоть одно из них — он перестал бы быть самим собою. Что и говорить, он знал себе цену и не думал это скрывать. О коллеге, которого не почитал профессионалом, без всякой аффектации говорил: «Такого искусствоведа нет». Не помню, чтобы он хоть раз ошибся.
Даже в светской болтовне не допускал он иронии по отношению к нашей профессии (почему-то у молодых это считалось хорошим тоном).
Отменное воспитание вовсе не мешало нравственной жесткости. Фамильярности Всеволод Николаевич не терпел; на одном из заседаний бюро я с удивлением услышал — именно от него — отчества своих молодых сверстников. Он никого не позволял себе называть просто по имени. Один из его старших коллег, решительно не умевший обращаться на «вы», настоял как-то на «тыканье», но Петров и говоря «ты» оставил в обращении имя и отчество. И не получалось вовсе по-партийному, а как-то в усадебно-дворянской манере.
За мишурой — а все это и впрямь было мелковато — было настоящее профессиональное рыцарство. Оно помогало верить в возможность работать достойно в любой ситуации.
Как тогда, в начале шестидесятых, в Союзе художников Петрову удавалось быть почти своим? При всей своей барственности он умел казаться достаточно демократичным. Был в этом какой-то странный фокус: он ведь всегда сохранял дистанцию, не скрывал уверенности в своем превосходстве, но настолько не хотел ни с кем ссориться, был внутренне так напуган, что мало кого раздражал.
Случалось, мы выходили вместе с ним из союза, и короткие эти прогулки и беседы едва ли не всякий раз оставляли у меня ощущение, что я побывал на каком-то сольном интеллектуальном концерте, поучительно-снисходительном. То Всеволод Николаевич уверял меня, что пить надобно никакие не коньяки, а исключительно водку: «Алкоголь чисто духовная радость, а никак не гастрономическая». То, стоя перед зеркалом, томно смотрел на себя и серьезно говорил: «Эту шляпу я купил в Чехословакии, смею думать, она мне к лицу». То откровенно хвастался — не тем, что был на фронте, а тем, что дослужился до старшего лейтенанта, и добавлял с настоящей и сдержанной гордостью: «Как-никак, поручик, чин немалый!» Любил всякие чины и степени, даже о звании доцента, которого многие дураки достигали без труда, говорил мечтательно. Злые языки рассказывали, что у Всеволода Николаевича почему-то не было университетского диплома и это лишило его возможности защитить диссертацию.
Его пускали за границу, возможно, потому, что отец его был на деле и официально знаменит. Николай Николаевич Петров — прославленный онколог, академик, Герой Соцтруда и генерал. Беспартийные интеллигенты, которым разрешали такие поездки, этому, конечно, страстно радовались, но не гордились, скорее стеснялись. А Всеволод Николаевич говорил самодовольно: «Отказов не было».
Странную прожил он жизнь. Рассказывали, в двадцатые годы он любил вакхические декадентские забавы, «изнеженность нравов» в большом, нарочито раздетом обществе, где покрывались позолотою некоторые части тел. Может быть, врали, а может, и нет, юному, как называли его сверстники, «Вовочке Петрову» это шло.
Ему шло все, а что не шло и было на самом деле нелепым, он все равно облагораживал своим бескрайним самоуважением. Когда я приходил к нему днем, он долго заставлял себя ждать, как барин просителя. Выходил, случалось, небритым, но в бабочке. А невкусным и жидким пустым кофе из сомнительного кофейника угощал, словно из павловского сервиза драгоценным мокко.
Я часто вспоминаю этот дешевый клеенчатый блокнот, из которого Всеволод Николаевич читал мне про Хармса. Столь неказистый он выбрал, надо думать, из элементарной осторожности. Его легко было спрятать или уничтожить.
Сначала в Союз художников надо было ходить, чтобы в него поступить. Поскольку у меня был уже с десяток публикаций, в том числе и многократно упоминавшаяся книжечка «Юрий Подляский», меня в союз приняли легко. Сам Подляский написал мне трогательную рекомендацию, где была восхитительная фраза: «В книге М. Германа обо мне есть прекрасные места».
Полноправным членом ЛОСХа стал я с весны 1962-го, и кожаный темно-вишневый билетик с подписью самого Сергея Васильевича Герасимова («Художник, а не орденоносец» — определяли еще до войны разницу между ним и Александром Герасимовым, а сам же Сергей Васильевич на вопрос: «Не родственник ли вы Александру Михайловичу?» — желчно отвечал: «Даже не однофамилец») я храню по сию пору, хотя союз то ли полностью развалился, то ли тлеет и я уже давно не ощущаю своей причастности к нему.
А тогда этот билет — принадлежность едва ли не «Аглицкому клубу». В чем-то членство в ЛОСХе было похлеще кандидатской степени, к тому же нормальное гражданство, социальное бесстрашие, своего рода «вид на жительство» для не служащего нигде человека, бесплатный вход во все музеи, право (пассивное, как уже говорилось, но все же!) на дополнительную площадь, гонорары за лекции и тексты как кандидатам наук. Словом, новый повод зазнаться, состояние, в которое я систематически впадал, чудесным образом сохраняя панический страх перед жизнью и неуверенность в себе.

В здании Союза художников на Большой Морской (б. Герцена), 38. 2000-е
Но долго еще меня тянуло в этот фантомный мир советского, отчасти респектабельного, отчасти богемного, творческого бытия. Мне он казался «престижным», я завидовал коллегам, которые в нем давно и прочно состояли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: