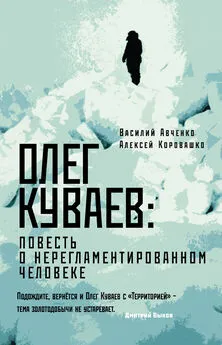Алексей Коровашко - Михаил Бахтин
- Название:Михаил Бахтин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-04002-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Коровашко - Михаил Бахтин краткое содержание
знак информационной продукции 16+
Михаил Бахтин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отношение автора к герою предполагает не только этическую, но и эстетическую позицию, определяющую, в свою очередь, характер художественного оформления текста. Если «эмоционально-волевая предметная установка героя» авторитетна для автора, мы имеем то, что Бахтин называет «героизацией». Если же эта установка «разоблачается как неправо претендующая на значимость», то перед нами — сатира, ирония и пр.
Вообще, резюмирует Бахтин вторую главу своего трактата, «эстетическое событие может совершиться лишь при двух участниках» и всегда предполагает как минимум «два несовпадающих сознания». Простого соприсутствия двух сознаний для развертывания эстетического события, впрочем, недостаточно: необходимо, как уже говорилось, чтобы автор по отношению к герою занимал позицию вненаходимости. Если же «герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое (памфлет, манифест, обвинительная речь, похвальное и благодарственное слово, брань, самоотчет-исповедь и проч.)». В случаях, когда «героя вовсе нет, даже потенциального», вступает в свои права познавательное событие, проходящее по ведомству гносеологии и находящее воплощение в таких жанрах, как трактат, статья и лекция. И, наконец, там, «где другим сознанием является объемлющее сознание бога, имеет место религиозное событие (молитва, культ, ритуал)».
Эти законы дифференциации эстетического, этического, гносеологического и теологического подкупают своей внешней логичностью и последовательностью, но, к сожалению, вряд ли смогут оказать существенную помощь в изучении разного рода пограничных явлений и феноменов. Как, например, быть с вавилоно-аккадским эпосом «Энума Элиш», который был неотъемлемой частью новогоднего ритуала и читался верховным жрецом в главном храме Мардука, Эсагиле, перед статуей этого бога-громовержца? Что прикажете делать с текстами Виктора Шкловского, которые зачастую являются и научными трактатами, и самоотчетами-исповедями, и полноценными художественными произведениями (вспомним хотя бы «Сентиментальное путешествие» или «ZOO, или Письма не о любви»)? Как адекватно описать «уживаемость» сознаний Бога, автора и героя в «Исповеди» Блаженного Августина? Вопросы эти можно множить и дальше, но ответы на них все-таки лежат за пределами написания биографии Бахтина, поэтому перейдем к анализу третьей главы разбираемого трактата, которая носит название «Пространственная форма героя».
В этой главе Бахтин ставит перед собой две принципиально важные, с его точки зрения, цели. Во-первых, он пытается выяснить, «как мы переживаем свою собственную наружность и как мы переживаем наружность в другом». Во-вторых, он стремится установить, «в каком плане переживания лежит ее (наружности. — А. К.) эстетическая ценность».
Свою наружность любой человек, справедливо полагает Бахтин, может пережить только изнутри. В виде разрозненных обрывков и фрагментов она обречена «болтаться на струне внутреннего самоощущения». Во внешнем мире человеку не удается встретить «своей внешней выраженности как внешний же единый предмет рядом с другими предметами», он всегда будет находиться «как бы на границе видимого им мира, пластически-живописно не соприродного ему».
Когда человек, пытаясь представить свою внешность, обращается к «мечте о себе», он, осознавая это или нет, вступает на путь «творческого воображения», которое является фундаментом эстетической деятельности. Но, разумеется, одного творческого воображения, работающего вхолостую и не покидающего сознание того, кто его «включил», недостаточно для материализации произведения искусства. Чтобы возник полноценный художественный текст, например роман, человек должен «рассказать свою мечту или свой сон другому» и при этом «перевести главное действующее лицо в один план с другими действующими лицами (даже где рассказ ведется от первого лица)». Человеку, шагнувшему на писательскую стезю, необходимо учитывать, «что все действующие лица рассказа, и он сам в том числе, будут восприняты слушающим в одном живописно-пластическом плане, ибо все они другие для него». Согласно Бахтину, в мире художественного творчества «все действующие лица равно выражены в одном пластически-живописном плане видения», тогда как в жизни и в мечте главный герой, за которым закреплен я-нарратив, «внешне не выражен и не нуждается в образе». Важнейшая задача художника, настаивает Бахтин, и заключается в том, чтобы «облачить во внешнюю плоть это главное действующее лицо жизни и мечты о жизни». Может показаться, что все это крайне просто и не требует дополнительного философско-эстетического осмысления: знай, рассказывай себе об увиденных снах и грезах, стремясь ничего не упустить. Однако любой, кто пытался после пробуждения поведать близким о содержании своих сновидений, ведает, что это довольно сложная задача: сюжетные тропы, по которым ты бродил под руководством Морфея, при дневном свете начинают, подобно дорогам, по которым перемещался Чичиков, «расползаться во все стороны, как пойманные раки».
Для желанного «облачения во внешнюю плоть» субъекта, мечтающего о себе, нужно, советует Бахтин, «вдвинуть между моим внутренним самоощущением — функцией моего пустого видения — и моим внешне выраженным образом как бы прозрачный экран, экран возможной эмоционально-волевой реакции другого на мое внешнее явление: возможных восторгов, любви, удивления, жалости ко мне другого». Только глядя «сквозь этот экран чужой души, низведенной до средства, я оживляю, — констатирует он, — и приобщаю живописно-пластическому миру свою наружность».
Особым случаем такого экрана является зеркало, которое обеспечивает нам «смотрение на себя». Бахтин считает необходимым разрушить иллюзорное, но необычайно распространенное представление о том, что, находясь перед зеркалом, мы «видим себя непосредственно». Это, однако, не так: на самом деле «мы видим отражение своей наружности, но не себя в своей наружности». Человек обречен быть «перед зеркалом, а не в нем». Кроме того, путь к аутентичному «я» усложняется еще и тем, что «мы почти всегда несколько позируем перед зеркалом, придавая себе то или иное представляющееся нам существенным и желательным выражение». Поэтому «первой задачей художника, работающего над автопортретом, и является очищение экспрессии отраженного лица, а это достигается только тем путем, что художник занимает твердую позицию вне себя, находит авторитетного и принципиального автора». Этим авторитетным автором выступает «автор-художник как таковой, побеждающий художника-человека». Если Бахтин прав, то ярким примером победы автора-художника над автором-человеком является картина Караваджо «Давид с головой Голиафа» (1607–1610), на которой отсеченная голова легендарного филистимлянского воина выполняет «роль» автопортрета знаменитого итальянского живописца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






![Алексей Коровашко - Олег Куваев [повесть о нерегламентированном человеке] [litres]](/books/1068511/aleksej-korovashko-oleg-kuvaev-povest-o-nereglame.webp)