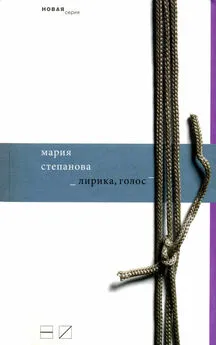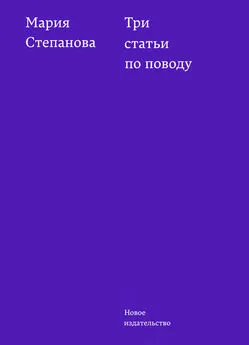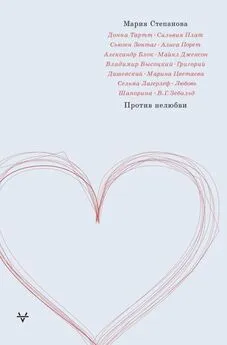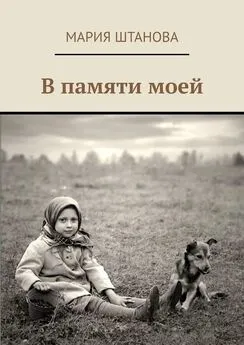Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тело, свое и чужое, конечно, оказывается тут необходимым материалом, глиной для лепки: его приходится проверять на прочность и непрочность одновременно. На одном из автопортретов прозрачный, крученый телефонный провод тянется изо рта Франчески, будто ее тошнит мыльными пузырями. На других в живот и ляжки вминаются острые края зеркала, груди и бока прихвачены прищепками, торчащими, словно клювы. Это идет время: человек размыт, предметы сохраняют свои очертания; нет никакой разницы между собой и другими, только бесконечная, безличная нежность. Это чистое вещество беспамятства; океан без окна, по слову Мандельштама, — находящийся в постоянном рассеянии, вздувающийся, съеживающийся, сохраняющий лицо и вдруг сминающий его или рвущий. Иногда, не всегда, редко, на поверхности потока возникает рябь: что-то теснит его изнутри, что-то вспучивается, возникает как бы против собственной воли, заостряясь и наводясь на резкость. Так, утопленником из-под черной воды, прошлое просовывается в современность. Так, не исчезая, не сливаясь с фоном, а проступая из цветочков и осыпавшейся побелки, кристаллизуясь и фокусируясь, отпечаток за отпечатком возникает тело Франчески. В одном из видео она завернута в бумагу и пишет на ней свое имя, буква за буквой, — а потом рвет обертку изнутри и выходит на свет.
Глава четвертая, Мандельштам отбрасывает, Зебальд собирает
«Такой богатой, мирной, спокойной и веселой Москвы я еще никогда не видела. Даже меня она заражает спокойствием…»
В декабре 1935-го Надежда Яковлевна Мандельштам приезжает в Москву из Воронежа хлопотать за сосланного мужа. В огромном городе, лучше которого и нет на свете , ей хорошо; праздничный, ясный, стоящий на своей правоте, он кажется пупом земли, а прикосновение к нему заражает-заряжает спокойствием, это слово повторяется в двух предложениях дважды, словно на нем надо настаивать.
Советские тридцатые узнаются в ее письмах к мужу сразу, как на веселых картинах Пименова, как в поздней прозе Булгакова, где смешной и страшный мир не устает настаивать на своей счастливой полновесности. Дневная сторона вещей (платья, заводы, нескучные сады) становится только тверже и глаже от присутствия ночной, оборотной стороны, которую считается разумным не поминать. Присутствие ужаса вроде как даже бодрит — буравит в реальности муравьиные ходы, сообщая ей совершенно особую дрожь, пузырящийся, как ситро, речной сквознячок, утреннюю бодрость тех, кто сегодня выжил:
На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров.
Вода на булавках и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.
Нельзя не помнить, что мы являемся прямым выводом из этого муравьиного множества празднующих и исчезающих; цветочницы, спины, трамвайные вишенки страшной поры — среди них, на «А»- Аннушке, моя двадцатилетняя бабушка — составляют с ним одну толпу, одно движение, один словарный запас.
Широкая дуга тридцатых годов так прокрашена временем, что холсты и тексты братаются поверх авторских голов: время и место рождения им дороже прямого родства. У них есть своего рода общий знаменатель, о котором трудно говорить. Это вдруг вернувшееся на место ощущение уюта — плотности и непрерывности жизненной ткани, которая дает человеку с его птичьими правами и короткой памятью лживое чувство укорененности в настоящем. Оно знало, что обещать («Весной мы расширим жилплощадь, / Я комнату брата займу»); жить становилось веселей, в 1935-м гражданам официально разрешили праздновать Новый год, и пакт об общем труде и коллективном празднике был запечатан елочной смолой.
Новые, воронежские стихи Мандельштама — о том, как мы жизнью полны в высшей мере, — были не просто вкладом в этот коллективный труд, блестящим, как научный доклад, доказательством того, что он умеет мериться пятилеткой, как все и каждый, как Пастернак, но и чем-то большим. Стихи притязали не на недавнее прошлое, не на доступное в ощущении настоящее — но пытались отхватить портновскими ножницами косой и крупный кусок будущего, забежать вперед и заговорить еще не существующим языком всей-страны. И у них получалось.
Работа, выполненная ими, имела, по Мандельштаму, первоочередное значение, самоочевидную важность — и должна была быть доставлена в Москву, как самородок или гигантский колос, как достижение народного хозяйства. С этим и приехала той давней зимой Надежда Яковлевна; им обоим было так ясно, что писательскому миру достаточно увидеть эти стихи, чтобы те заняли свое место под стеклянным солнцем ближайшего будущего — то, что я скажу, заучит каждый школьник .
Именно эта уверенность в срочности и неотложности написанного заставляла их торопиться и приближать беду.
«Я, в общем, сейчас собой довольна — сделала и делаю все, что можно. А дальше — только покориться неизбежности… никуда не ездить, ничего не просить, ничего не делать… Никогда я еще так остро не понимала, что нельзя действовать, шуметь и вертеть хвостом».
Да, видно, иначе было нельзя никак .
Десятью годами раньше, в 1926-м, Марина Цветаева в первый и последний раз в жизни приезжает в Лондон. «На 10 дней еду в Лондон, где у меня впервые за 8 лет (4 советских, 4 эмигрантских) будет ВРЕМЯ. (Еду одна.)»
Чудом выданное — большими буквами — ВРЕМЯ она проведет неожиданным, вовсе не туристическим образом: за несколько дней, не разгибаясь, напишет яростный текст, который ей так и не удастся опубликовать при жизни. Статья называется «Мой ответ Осипу Мандельштаму»: лондонский друг-критик, большой поклонник мандельштамовской прозы, показал ей изданный в Ленинграде «Шум времени» — и реакция не заставила себя ждать. Книгу она сочла подлой ; и, думаю, дело было не только в трех написанных напоследок, на ходу, собственной рукой (обычно Мандельштам прозаические тексты диктовал — «я один во всей России работаю с голосу») главках, посвященных современности. Там описывалась белая Феодосия 1919-го, и Цветаева наотрез отказывалась понимать интонацию комического любования, с которой автор говорил об их общем знакомом — добровольческом полковнике со стихами и иллюзиями, то есть о проигравшем.
Цветаевская обида была, можно сказать, слишком личной. Вещи, о которых шла речь в феодосийских главках, прямо касались ее домашнего и поэтического хозяйства, и она говорила о них совсем в другой тональности. Добровольчество, которому отдал дань ее муж, было для нее беспримесной, героической жертвой; старые знакомые — что, может быть, важней — отправной точкой для парадного портрета, образцом жизни на высокий лад. Режим сгущения и искажения, в котором писал о них Мандельштам, был для нее не литературным приемом, но глумлением над тем, что не может себя защитить. Там много такого, лучше понятного с расстояния в век: например, то, что возмутившее Цветаеву «полковник-нянька» в мандельштамовском словаре исполнено глубокой нежности: словечком «няня» он подписывал свои письма к жене.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: