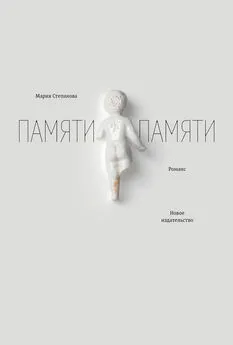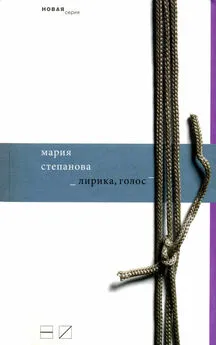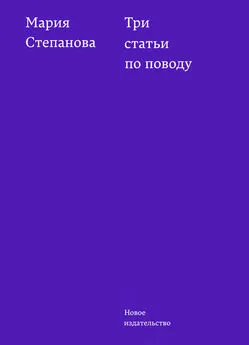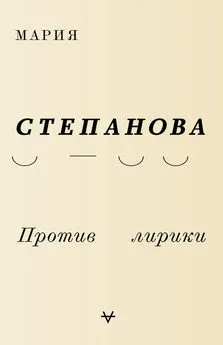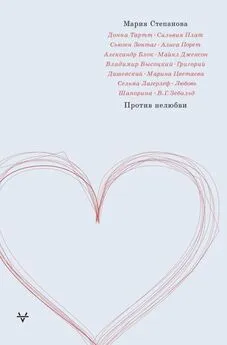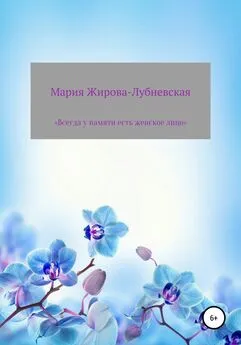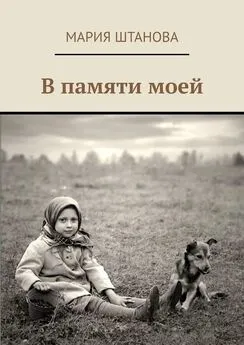Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В позднем интервью Зебальд рассказывает по случаю историю научного эксперимента. В резервуар, заполненный водой, запускают плавать крысу и ждут, сколько та продержится. Это длится недолго, минуту, потом крыса умирает от остановки сердца. Но некоторым вдруг предоставляют возможность выбраться — когда сил почти не остается, открывается ослепительный люк, ведущий на волю. Когда их снова бросают в воду, пережившие чудесное спасение ведут себя иначе: они плывут и плывут вдоль отвесных стенок, пока не сдохнут от усталости и истощения.
Насколько я знаю, эта история никогда и никак не возникает в его книгах, и хорошо, пожалуй. Ситуация предельной безнадежности, из которой, почти неощутимо для читателя, исходит Зебальд, обнажена здесь с ясностью почти недопустимой, не уравновешенной природными свойствами хорошего текста — звуком и интонацией, говорящими о присутствии автора: ты не один, на каждой ступени, ведущей вниз, с тобой продолжают разговаривать. Анекдот о крысах с его очевидными аналогиями и выводами лишает опоры любую конструкцию. Разговаривать не с кем, чуда не будет, и сама надежда на спасение только продлевает эксперимент, отодвигая смерть, которая в этом контексте начинает казаться милосердной.
Если подумать, ни один зебальдовский текст нельзя читать как утешительный, что бы это ни значило; вариант, при котором во тьму, где плывет и захлебывается жизнь, протягивается избавляющая рука, там не учтен с самого начала. Вежливое недоверие, с которым он огибает сюжеты, граничащие с божественным, имеет длинную историю; бессмысленно обращаться к этой прозе как к источнику биографического материала, но во второй части «Изгнанников» — в «Пауле Берейтере» — есть пассаж об уроках закона Божьего, которые вызывают сходную, раздраженную тоску у героя истории, школьного учителя, и у мальчика, от лица которого ведется повествование. Зная год, в котором родился Зебальд (1944-й), можно допустить, что у ребенка, растущего в ту пору в Германии, могло сложиться причудливое представление о миропорядке; в детстве, пишет он, ему было совершенно ясно, что одной из главных примет большого города, тем, что и отличало его от несерьезных деревушек вроде его родного Вертаха, были провалы между домами, заполненные щебнем и гарью, пусто́ты и груды кирпича. Зебальд, наотрез отказавшийся считать себя тематическим автором, пишущим о Катастрофе европейского еврейства (и это правда так: у него вызывало равную солидарность все уничтожаемое, включая деревья и постройки, и я не сказала бы, что человек был важней остальных), все же стал каноническим автором литературы Холокоста, свода книг о необходимости помнить. Тем интересней лекции, прочитанные им в 1997 году и вошедшие в сборник под общим названием «Воздушная война и литература», где речь идет о памяти другого рода — о ковровых бомбардировках немецких городов в последние годы войны и о слепом пятне, окружившем эти события в сознании тех, кто выжил.
«В свете всего, что мы знаем теперь о гибели Дрездена, — пишет Зебальд, — нам кажется невероятным, чтобы человек, стоявший тогда в тучах искр на Брюльской террасе и видевший панораму горящего города, мог сохранить здравый рассудок. Нормальное функционирование обычного языка в рассказах большинства очевидцев заставляет усомниться в аутентичности изложенного в них опыта. За считанные часы в огне погиб целый город со всеми его постройками и деревьями, со всеми жителями, домашними животными, всевозможной мебелью и имуществом, а это не могло не привести к перегрузке и параличу мыслительной и эмоциональной способности тех, кому удалось спастись». Опираясь на немногие немецкие источники, на воспоминания пилотов-союзников и свидетельства журналистов, он описывает огонь, поднимавшийся вверх на две тысячи метров, так что кабины бомбардировщиков разогревались, как консервные банки, горящую воду в каналах и трупы в лужах собственного жира. В логике зебальдовского перечисления, о чем бы ни шла речь, нет места теодицее: там отсутствует пространство, в котором можно было бы повернуться к Богу со словами вопроса или упрека, — оно все, до отказа, как затонувший ковчег или братская могила, заполнено теми, кто не спасся.
В этом смысле Зебальду не приходится выбирать между (говоря словами Примо Леви) канувшими и спасенными, погибшими и теми, кому еще только предстоит умереть. Чувство братства перед лицом общей участи, как в осажденном городе или на тонущем корабле, делает его метод универсальным, всеобъемлющим: чуда не будет, всему, что перед нами, включая и нас, предстоит исчезнуть, и это не займет много времени. А значит, выбирать не приходится — и любая вещь, любая судьба, любое лицо и любая вывеска заслуживают того, чтобы быть упомянутыми, помаячить еще на свету перед окончательным затемнением.
Эта оптика, этот способ смотреть на мир как бы сквозь слой пепла, через целановскую подвижную завесу , делается особенно убедительной, как понимаешь, что автор оставался с тобой до последнего — и что он сам уже на той стороне и протягивает оттуда руку. Жанр реквиема тем и силен обычно, что речь ведется как бы через реку: с берега живых, от лица длящейся жизни. Иногда эта жизнь готова на многое. В страшном стихотворении Цветаевой женщина остается у гроба человека, о котором ничего не знает («Он тебе не муж? — Нет. / Веришь в воскрешенье душ? — Нет»), сама не понимая зачем, до самого конца:
Дай-кось я с ним рядом ляжу…
Зако — ла — чи — вай!
Но зебальдовская речь не просто следует за уходящими, он словно уже примкнул к их косому, как дождь, строю, стал одним из перемещаемых лиц на дороге в прошлое. В его documentary fiction рассказчик то и дело совпадает с контуром автора, у него есть история и некоторое количество знакомых среди живых, усы и паспортная фотография Зебальда, но странная прозрачность мешает считать его существующим. Все, чем занят этот человек, — движение, словно его гонит какой-то внутренний ветер, имеющий свои, не совпадающие с нашими, часы работы и отдыха; хроника путешествий и переходов, автобусов, оставляемых гостиниц, где так хорошо смотреть на женщину за стойкой портье, занятую своим делом, словно сила тяжести по-прежнему действует и торопиться некуда; перечисляются названия улиц и железнодорожных станций, словно автор не вполне доверяет собственной памяти и предпочел бы записывать все с максимальной старательностью, прилагая, как командировочный, ресторанные чеки и гостиничные счета. Тут же и фотографии, встроенные в текст: по ним, как по отпечаткам пальцев, узнаются зебальдовские книги.
Мой друг, с любовью и старанием выпускающий сейчас в свет их русские переводы, долго переписывался с правообладателями, пытаясь добиться предельного совершенства, идеального качества иллюстраций. Сделать это было никак нельзя; оказалось, что Зебальда печатают по одному, старому, образцу, оригиналы фотографий в издательстве не хранятся, где их взять — неизвестно. Тут он затосковал совсем, и, видимо, почуяв это, немецкий издатель написал ему в утешение, что печалиться не о чем: при подготовке своих книг к печати Макс (домашнее имя Зебальда, ненавидевшего данное ему при рождении бравурное Винфрид Георг) потратил долгие часы, стараясь предельно замутнить изображение, сделать его нечетким, туманным, любым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: