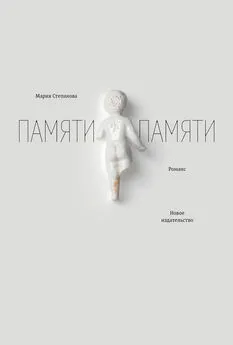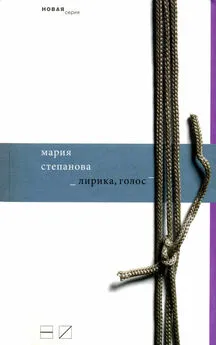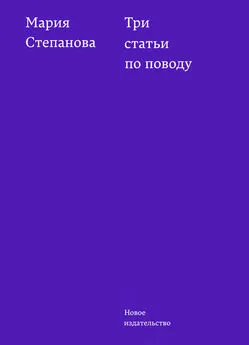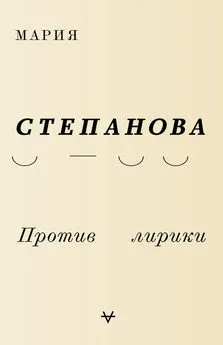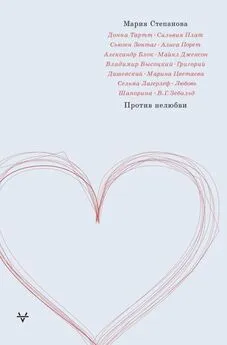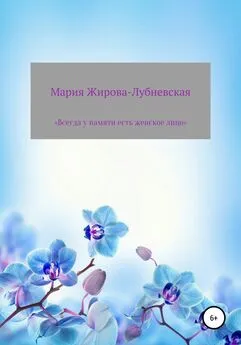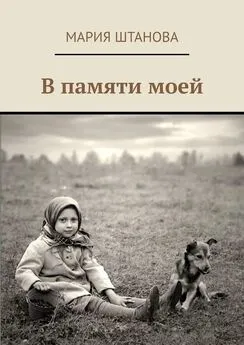Мария Степанова - Памяти памяти. Романс
- Название:Памяти памяти. Романс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:98379-215-9, 98379-217-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Степанова - Памяти памяти. Романс краткое содержание
2-е издание, исправленное
Памяти памяти. Романс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Люди, населяющие город и фронт, менялись с той же скоростью, что их представления о возможном и естественном. Блокадные записи Лидии Гинзбург подробно описывают стадии перерождения, которое оказывалось прежде всего телесным, касалось гигиенических привычек и бытовых навыков, проступало наружу «посеревшими волосами и кожей, зубами, которые начинают крошиться», вытесняло потребность в чтении — зато заостряло волю применяться к обстоятельствам и выживать. Летом сорок второго, когда голод и холод чуть отодвинулись, это обозначило новую, необычную проблему: что-то вроде зазора между полученной передышкой и въевшейся в плоть инерцией борьбы за существование. Кожаная подушечка в кресле (милый подарок из прежней жизни) вызывала тяжелое недоумение: «возникала возможность возвращения вещей к их первоначальному назначению». Но что было делать с нею, с книжными полками, с самими книгами? Теперь они как бы подползли поближе, хотя взять их в руки было всё еще незачем. Нерассуждающее умение растапливать печь, поднимать по мерзлой лестнице ведра с водой, удерживать на весу судки, сумки, карточки, ежедневный мучительный ритуал пробуждения и сборов — все это принадлежало какому-то новому человеку. В изменившемся мире со старым я предпочтительней было расстаться не оглядываясь. В конце концов, все вокруг самозабвенно мутировало, водка превращалась в хлеб, мебель в сахар; как пишет та же Гинзбург, «из зелени делали лепешки, из селедки котлеты». Для нее в этом есть внятный урок: «каждый продукт должен был перестать быть самим собой». Безусловно, то же следовало предпринять и людям.
Что-то похожее рассказывает о себе Никулин, призванный на фронт летом 1941-го; в конце осени с ним, растерянным дистрофиком, происходит неожиданная перемена. Завшивевший, обессиленный, он провел ночь в какой-то яме и плакал там от тоски и слабости. «Откуда-то появились силы. Под утро я выполз из норы, стал рыскать по пустым немецким землянкам, нашел мерзлую, как камень, картошку, развел костер… С этих пор началось мое перерождение. Появились защитные реакции, появилась энергия. Появилось чутье, подсказывавшее, как надо себя вести. Появилась хватка. Я стал добывать жратву… Я собирал сухари и корки около складов, кухонь — одним словом, добывал еду, где только мог. Меня стали брать на передовую».
Новый, умелый человек, научившийся выживать, полезен не только себе, но и государству — он годится для дела, и здесь снова нету разницы между городом-фронтом и линией огня. Мысль, одушевляющая блокадные тексты Гинзбург, — как раз мысль о пользе, понятой интересным образом. Западный мир оказался бессильным перед Гитлером, говорит она; единственный, кто смог с ним справиться, — советский Левиафан: система, запугавшая и развратившая, обезличившая частного человека до такой степени, что он научился жертвовать собой, почти этого не замечая. Пока индивидуальное цепенело от ужаса, разлагалось, вело себя глупо или гадко, смысл пришел к нему под знаком коллективного противостояния безусловному злу. Из чрева умирающего города (изнутри осуществившейся жертвы) Гинзбург предлагает себе и своему классу вольных интеллектуалов разновидность мобилизации: отказ от частного/ эгоистического во имя суровой гражданственности, равнодушной к каждой отдельной судьбе, но спасающей целое. Это было бы невозможно до войны, но военное время отменило старый порядок отношений. Удачники академического мира, говорит она, — где они теперь? Шатаются по дорогам, их разграбленные квартиры стоят пустые. Перерожденный, очищенный от старых привычек, эффективный человек военного времени живет налегке — становясь таким образом применимым для общего дела.
Сообразно логике служения и само письмо Гинзбург предельно сжато, экономично. Записи, существующие во множестве редакций и вариантов, отведены для фиксации сюжетов, из которых можно извлечь типическое — наблюдения, дающие основу для вывода. Все личное отчуждается, словно его уже можно считать умершим. Его следует изучить, выпотрошить, подвергнуть анализу; описать — но лишь в той мере, в какой оно годится для обобщения. Все необязательное (такое, как гедонистические хроники встреч с прекрасным) оттуда изгнано. Впрочем, в огромном томе блокадных текстов Гинзбург есть один — едва ли не стесняющийся себя — фрагмент, где несносный наблюдатель незаметно впадает в знакомый модус завороженного созерцания.
«Люди больших городов, не догадывавшиеся о том, что не только на даче, но и в городе бывает луна, мы считали естественным и само собою разумеющимся, что ночью на улицах светло. Помню, как мне представилось это в первый раз. Стояла сплошная чернота, тьма ноябрьской ночи. Чернота неба плохо отделялась от черноты домов, стоявших огромными срубами (кое-где они просвечивали незаткнутыми щелями). Странные синие трамваи шли как двухэтажные, потому что они глубоко отражались в мокрой черноте асфальта.
В перспективе Невского быстро возникали и приближались большие парные огни машин, то, как следует, синие, то зеленоватые или почему-то грязно-оранжевые. Огни приобрели небывалую значительность. Они шли парами (и цепью) и в тумане вдруг испускали из себя уплотненный луч или рог».
Текст, который до поры разворачивался где-то между отчетом и обобщением, на глазах заглядывается — заливается, как водой, обморочным забытьем, теряет всякую память о собственных задачах и обстоятельствах. Через несколько строк автор очнется и поспешит сказать, что «для нашего современника тут нет ни мистики, ни романтики», лишь бытовое неудобство — но опыт ее товарищей по несчастью, зачарованных теми же светом и чернотой, говорит о другом. Когдатошнее «мы» городских жителей, ставшее для Гинзбург точкой отталкивания, истончилось до предела, сквозь него было видно мосты и здания. Кажется, только стыдные зоны счастливого оцепенения, где человек созерцал то, что существует помимо него , и можно было назвать пространством общности, о которой Лидия Яковлевна тщетно мечтала в блокаду.
В середине осени город только начинал остывать. Говорили о том, что голод неизбежен, но в кафе все еще кормили. После воздушного налета затопили ванну, вымыли детей; очень скоро мысль о том, что достаточно легкого движения, чтобы из крана полилась вода, будет казаться неправдоподобной. Город бомбят, стекла домов заклеены, вечера завалило тьмой, но синие трамваи будут ходить до декабря. Продовольственные нормы становятся всё ниже: вместо ежедневных шестисот граммов хлеба служащим выдают двести. В сентябре Шапорина идет за продуктами, получает по карточкам хлеб — и отвлекается на чтение уличной газеты. Потом окажется, что она забыла получить пять яиц, которые ей полагались. Через несколько недель забыть о еде будет немыслимо. Кто-то замечает, что который день спит, не раздеваясь: ночью приходится спускаться в бомбоубежище. В ледяных квартирах страшной зимы будут спать в одежде, натягивая сверху все тряпье, что удастся найти в доме; когда придет весна, выжившей Лидии Гинзбург трудно будет заставить себя сменить валенки на ботинки. Холодает уже сейчас; запасы топлива в городе кончились еще в сентябре — на рубку дров отправляют кого придется, подростков, девушек в пальто и легкой городской обуви. В ночь на 7 октября выпадет первый снег. На следующий день Лёдик каким-то образом окажется в блокадном Ленинграде.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: