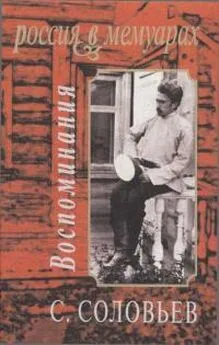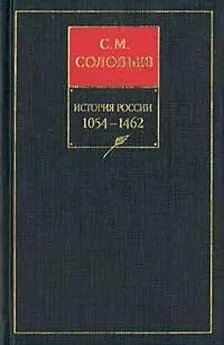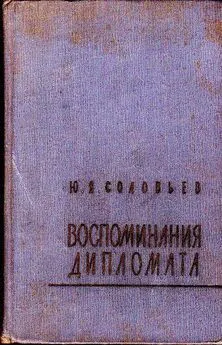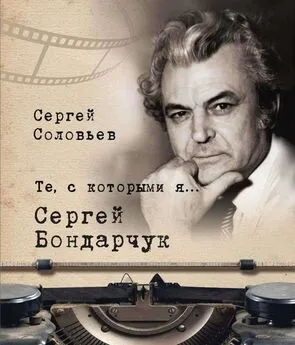Сергей Соловьев - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-212-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Соловьев - Воспоминания краткое содержание
1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем.
Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом.
Ночной эфир на землю лился.
В душе ликующей моей
Видений светлых рой кружился.
Воспоминанья прежних дней
Во мне горели ярким светом.
Я слышал ясный голос твой,
И, озарен твоим приветом,
Благословлял я жребий свой.
Деревья тихо трепетали;
Я видел свет — я к свету шел;
Во мраке молнии сверкали,
И озарен был тихий дол.
В огне заката ты сияла.
Стада паслися на лугах;
В зарницах ярких ты блистала
И рассыпалась на цветах [9] Блоковский сборник. XV. С. 216—217.
.
Попытку развить на свой лад блоковскую лирическую тему «Лучезарной Подруги» Соловьев предпринимает с использованием богатого арсенала поэтической фразеологии, накопленного еще в пушкинскую эпоху, путем монтажа заимствованных словосочетаний, включающих и почти дословные цитаты («Во мраке молнии сверкали» — «Во мраке молнии летали», строка из думы Рылеева «Смерть Ермака»). Разумеется, трудно ожидать у тринадцатилетнего автора выработанного самостоятельного поэтического голоса, однако характерно, что ученическая зависимость от классических образцов неизменно сказывается и в более зрелых стихотворениях Соловьева, отличающихся самым высоким уровнем поэтической культуры.
Впрочем, мистический энтузиазм, роднивший гимназиста Соловьева со студентами Бугаевым и Блоком, был подлинным — настолько, что на его основе сложился на короткое время, в 1903—1904 гг., своего рода эзотерический триумвират «соловьевцев»; все трое участников, стремясь быть верными духовным заветам Владимира Соловьева, внутренне дистанцировались как по отношению к самодовлеющему «декадентству» (концентрировавшемуся вокруг московских издательств «Скорпион» и «Гриф»), так и по отношению к религиозно-общественной проповеди на страницах журнала «Новый Путь», предпринятой Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус; «мирской», «посюсторонний», пропагандистский характер этой проповеди не был созвучен иррациональным и мифотворческим визионерским чаяниям трех эзотериков. Радость «единения в мистической идее Владимира Соловьева» [10] Соловьев С. Воспоминания об Александре Блоке // Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 22.
Сергей Соловьев — то ли благодаря юношеской пылкости, то ли в силу своего природного бурного темперамента — переживал гораздо интенсивнее, чем Белый и в особенности Блок, и провозглашал ее с изрядной долей фанатизма; когда же в мировидении и творчестве Блока стали проступать новые тенденции, свидетельствовавшие о переоценке объединявших их заветов, когда эта переоценка получила художественное оформление в «Балаганчике», Соловьев выразил свое неприятие нового Блока столь же последовательно и прямолинейно, пойдя на фактический разрыв личных отношений.
Сам Сергей Соловьев, став студентом, также претерпел определенную эволюцию, начало которой положила, видимо, первая тяжелая жизненная драма в январе 1903 г. — одновременная смерть отца и матери, покончившей с собой сразу после кончины мужа. Восторженного мистического юношу-гимназиста сменил начинающий филолог, погрузившийся в античную культуру, которая открыла ему мир новых идеалов: религиозно-мистические и «теократические» мотивы в творческом мироощущении молодого поэта теперь сосуществуют с преклонением перед «язычеством», с прославлением земной красоты; порой «земные» ценности даже начинают доминировать над «небесными». Первую книгу своих стихов, появившуюся в 1907 г., Соловьев назвал «Цветы и ладан», и это двусоставное заглавие отражало дихотомию внутреннего мира автора, стремившегося к сочетанию равно дорогих ему, но конфликтующих в его сознании начал. Прообраз грядущей гармонии этих начал открылся Соловьеву в танце Айседоры Дункан; впечатления от этого мелопластического действа побудили его к построению символических проекций самого общего плана, но имевших непосредственное отношение к решению собственных творческих задач. В заметке «Айсадора Дёнкан в Москве» (1905) Соловьев заявлял: «Красота всегда телесна <���…> звук столь же телесен, как изгиб тела, краска. И телодвижение столь же духовно, как звук. <���…> Айсадора Дёнкан дала нам предчувствие того состояния плоти, которое я называю «духовною телесностью». В ее танце форма окончательно одолевает косность материи, и каждое движение ее тела есть воплощение духовного акта» [11] Весы. 1905. № 2. С. 33. Подпись: С. С.
.
Эта заметка стала дебютом Сергея Соловьева в печати [12] Сам Соловьев в автобиографии называет своим первым печатным выступлением публикацию в альманахе «Северные цветы ассирийские» (М., 1905) стихотворного цикла «Предания» (РГАЛИ. Ф. 341. On. 1. Ед. хр. 288), однако указанный альманах вышел в свет поздней весной 1905 г., в то время как заметка «Айсадора Дёнкан в Москве» была опубликована в февральском номере «Весов» за тот же год.
; появилась она в «Весах», самом представительном журнале русских символистов. Вхождение начинающего автора в символистскую литературную среду, в которой уже вполне освоились и Белый и Блок, было закономерным и даже предопределенным. С 1905 г. Соловьев начинает регулярно печататься в «Весах», его произведения публикуются также на страницах других модернистских изданий — «Вопросов жизни», «Золотого руна», литературно-философских сборников «Свободная совесть». Разочаровавшись в Блоке, Соловьев творит себе нового кумира, которому поклоняется одно время со всей безудержностью своего темперамента. Это — Брюсов; Соловьев чтит в нем блистательного мастера стиха и пытается ученически перенять его формальные приемы. К Брюсову обращен цикл стихотворений Соловьева, в котором мэтр русских символистов вознесен до предельных высот:
Ты, Брюсов, не был бы унижен
Среди поэзии царей,
И к ямбу Пушкина приближен
Твой новоявленный хорей.
И даже:
Звука Пушкинского нега!
Пушкин — альфа, ты — омега
В книге русского стиха [13] Соловьев С. Цветы и ладан. Первая книга стихов. М., 1907. С. 65, 68.
.
Соловьева не слишком смущают «декадентские» ноты поэзии Брюсова и этический релятивизм мастера, сказавшийся со всей отчетливостью в целом ряде его «дерзновенных» стихов [14] Так, в одном из писем к Блоку (от 24 декабря 1903 г.) Соловьев критически отзывается о Брюсове в связи с его «некрофильским» стихотворением «Призыв» («Приходи путем знакомым…», 1900), тогда еще не опубликованным, но получившим скандальную известность в авторском исполнении: «Я вижу у Брюсова весьма последовательную цепь противоестественных настроений. Начинается с любви к живым трупам, кончается уже определенной любовью к настоящему трупу. <���…> Эта черта в Брюсове меня отталкивает. В общем: я Брюсова очень ценю и весьма к нему расположен, особенно высоко ставя его отзывы о моих стихотворениях, хотя во многом мы с ним принципиально и практически расходимся» (РГАЛИ. Ф. 55. On. 1. Ед. хр. 406. Цитируется фрагмент письма, изъятый при публикации (см. примеч. 5) редакцией «Литературного наследства»). Год с небольшим спустя Соловьев уже вполне «принимает» упомянутое стихотворение, признаваясь в письме к его автору (10 марта 1905 г.): «Думая о ваших стихах, заметил в них Леонардовскую черту. В вас сильно сладострастие познания, вы зорко проникаете туда, куда страшно и не надо заглядывать: Смерти таинство проверь. Это “проверь ”так гениально, что трудно о нем говорить. Тут замечательна именно математичность слова. И основательная дьявольщина» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 23).
; в Брюсове он ценит полное и глубокое раскрытие того типа творчества — «аполлонического», рационально выверенного, изобразительно отчетливого и ясного, к которому тяготел и он сам. В мемуарном наброске «Брюсов эпохи Urbi et orbi и Венка» (1924) Соловьев утверждает: «…возрождение русской поэзии в начале 20 в. имеет в Брюсове своего единственного начинателя. Перед ним стоит Бальмонт, за ним следует Блок, но эти типичные романтики, чистые лирики и импрессионисты, не могли создать эпохи и школы , их создал Брюсов, поэт мысли, классик по форме, ученый изыскатель, организатор и практик. На заре моей жизни я был совершенно раздавлен могучим гением Брюсова» [15] РГБ. Ф. 696. Карт. 3. Ед. хр. 7. Л. 1. Соловьев продолжал высоко ценить Брюсова и в зрелые годы. В частности, 9 января 1929 г. он выступил на 38-м заседании Брюсовского кружка с докладом «Философские воззрения Брюсова» (см.: Лшукин Н. Заметки о виденном и слышанном / Публ. и коммент. Е. А. Муравьевой // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 199). См. также: Анчугова ТВ. От обожания к отрицанию: (Отклики Сергея Соловьева на поэзию Брюсова. 1903—1912 гг.) // Брюсовские чтения 1996 года. Ереван, 2001. С. 245—258.
. Романтические устремления и пафос индивидуального самовыражения в раннем творчестве Блока и Андрея Белого Соловьев разделяет и понимает, но в собственной поэтической практике он — безусловный «классик»: предпочитает брюсовскую «внешнюю» описательность, риторичность, самодовлеющую пластику образа, следование классическим образцам в тематике, стиле, стиховых формах. М. Л. Гаспаров справедливо отмечает, что Сергей Соловьев «по возрасту и духу принадлежал к младшему, религиозному символизму, а по выучке и стилю — к старшему, “парнасскому”» [16] Русская поэзия Серебряного века. 1890—1917: Антология. М., 1993. С. 271.
; не случайно среди поэтов, которых он переводил в первые годы своей литературной деятельности, — классик французской «парнасской» школы Жозе-Мариа де Эредиа [17] Четыре стихотворения Эредиа в переводе Соловьева были опубликованы в сборнике «Хризопрас» (М., 1906—1907), еще одно («На Офрисе») — в журнале «Зори» (1906. № 11/14. С. 15—16). Три перевода из «Хризопраса» (кроме «Антония и Клеопатры») перепечатаны в кн.: Эредиа Жозе-Мариа де. Трофеи / Издание подготовили Н И. Балашов, И. С. Поступальский. М., 1973. С. 59, 66, 75.
.
Интервал:
Закладка: