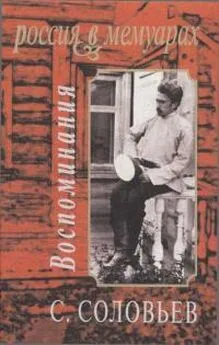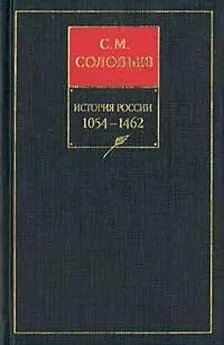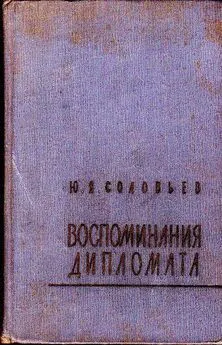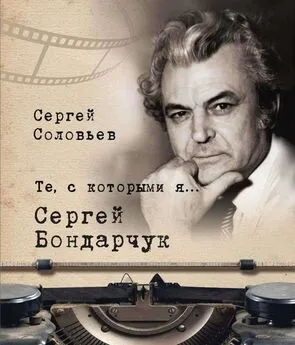Сергей Соловьев - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-212-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Соловьев - Воспоминания краткое содержание
1942) и сам был талантливым поэтом и мыслителем.
Во впервые публикуемых его «Воспоминаниях» ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX — начала XX века. Книга включает также его «Воспоминания об Александре Блоке».
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С кругом московских символистов Соловьев наиболее тесно сближается во второй половине 1900-х гг. — опять же главным образом благодаря Брюсову, который побуждает его к писанию рецензий в «Весах» и тем самым к поддержке «весовских» критико-полемических установок [18] Ср. свидетельство в цитированном мемуарном наброске Соловьева о Брюсове: «Однажды Брюсов зашел ко мне и, не застав, оставил мне сборник “Знания” с запиской, где просил <���…> разругать книгу и кончал словами: “Пора указать Горькому и К 0 их настоящее место”» (РГБ. Ф. 696. Карт. 3. Ед. хр. 7. Л. 4 об.).
. Но и в эту пору его сотрудничество в символистских изданиях не становится особенно активным; Соловьев как будто движется по течению, влекомый захватившим его общим потоком. Две книги его стихов, «Апрель» и «Цветник царевны», были выпущены в свет издательством «Мусагет», но в бурной внутренней жизни этого символистского объединения Соловьев деятельного участия не принимает. Подспудно он ощущает чужеродность себе многого из того, что составляло плоть и кровь «нового» искусства. «Чувствую глубокое раскаяние в том, что участвовал эту зиму в декадентских журналах. С Гоморрой и Содомом нельзя шутить безнаказанно», — признавался он в письме к Г. А. Рачинскому от 21 марта 1907 г. [19] РГАЛИ. Ф. 427. On. 1. Ед. хр. 2903.
«Декадентское» начало в символизме всегда было для него неприемлемо, и поскольку Соловьев склонен был очерчивать границы этого понятия весьма расширительно — включая в них любые формы иррационального творчества, лирическую стихийность и «романтическую невнятицу», — то его разлад с современной модернистской литературой приобретал принципиальный характер. Полагая, что «декадентское искусство есть плод перезрелой культуры», Соловьев противопоставлял ему символизм как высшую форму сознательного и ответственного творчества, исполненного высших задач: «Символическая поэзия есть наука о Вечности, как физика и химия — наука о природе. Как всякая наука, символическая поэзия — точна и определенна. Ее неясность есть сложность алгебраической формулы и ничего общего не имеет с мистицизмом и фантастикой» 20.
Образцы подлинной символической поэзии Соловьев находил почти всегда в прошлом, оставаясь в этом отношении последовательным «архаистом». Жуковский, Пушкин, поэты пушкинского круга — это в его восприятии истинный «золотой век» русской поэзии, на смену которому пришел «серебряный век» (Фет, Полонский) [20] Соловьев интерпретирует таким образом эти формулы в статье «Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева» (1913). См.: Соловьев С. Богословские и критические очерки: Собрание статей и публичных лекций. Томск, 1996. С. 124, 130.
, после чего наступила поэтическая деградация в «декадентстве». Аналогичную эволюцию он усматривает и в русской прозе: «Гоголь и Тургенев — последние художники слова. Любовь к слову испаряется у Достоевского, совсем гаснет у Толстого, этого последовательного врага Loyog’a. Наконец, хам вторгается в нашу литературу в лице земского доктора и босяка» [21] Соловьев С. Заметки // РГБ. Ф. 190. Карт. 55: Ед. хр. 6 (гранки текста, предполагавшегося к публикации в журнале «Труды и дни», 1912).
. Не выше, чем Чехова или Горького, Соловьев ценил и многих других именитых своих современников. Модернистские кумиры оставляют его равнодушным либо вызывают в нем резкое неприятие. Уайльду или Д’Аннунцио он безусловно предпочитает Вальтера Скотта; восхищаясь этим «архаическим» повествователем, он находит родственную душу в Юрии Сидорове, рано умершем начинающем поэте, также искавшем в романах английского классика «разумность и объективную красоту» [22] Соловьев С. Юрий Сидоров // Сидоров Юрий. Стихотворения. М., 1910. С. 20. См. также: Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 291-293.
. Примечателен и перечень поэтов, которых в качестве «главных образцов» приводит Соловьев в предисловии к первой книге стихов: Гораций, Ронсар, Пушкин, Кольцов, Баратынский, Брюсов и Вяч.
Иванов [23] Соловьев С. Цветы и ладан. С. 10.
. Современники — только двое последних, поэты с огромным потенциалом культурной памяти, знатоки и поклонники античной литературы и во многих существенных чертах такие же «архаисты», каким стремился быть Сергей Соловьев.
«Цветы и ладан» сочувственно отрецензировал Андрей Белый [24] Перевал. 1907. № 7 (май). С. 58—60.
— и в этом автор мог усмотреть дань старой дружбе; отрицательно отозвался о книге Блок [25] Разбор книги Соловьева Блок дал в статье «О лирике», опубликованной в «Золотом руне» (1907. № 6). См.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 151 — 156.
— и в этом автор с теми же основаниями мог распознать последствие личного разрыва; зато в отзывах критиков сторонних Соловьев услышал похвалу именно за то, к чему стремился в своих творческих заданиях. «Это — поэзия свежая, несмотря на всю строгость технической отделки стихов, и это мастерство, которого далеко не в полной мере достигли многие из опытных поэтов, — заключал Н. Я. Абрамович. — Дебютант <���…> показал настоящую своеобразность в творческих мотивах и поистине высокое совершенство формы. Такую строгость в чеканке стиха, в сжатом выявлении образа, в красивой простоте, уловленной как художественный прием из стихов Пушкина, вряд ли можно найти у кого-либо из современных поэтов, даже у такого мастера чеканки, как учитель С. Соловьева — В. Брюсов. <���…> В авторе виден поэт, с собственными прекрасными силами, вооруженный не хуже виднейших наших лириков» [26] Новая книга. 1907. № 1, 21 июня. С. 20. Подпись: Н. Я. А—вич.
. В том же ключе высказался Борис Садовской: «…в авторе “Цветов и ладана” природный талант счастливо сочетался с трудолюбием взыскательного художника <���…> все почти стихотворения г. Соловьева отличаются безупречной ясностью и чистотой стиля — качества, доказывающие, что в деле словесного искусства поэт достиг высокого совершенства. По общему характеру своего теперешнего творчества г. Соловьев должен быть причислен к числу виднейших представителей нео-пушкинской школы» [27] 2 * Рус. мысль. 1907. № 6. Отд. III. С. 106-107.
. Сам «неопушкинианец», Садовской едва ли не впервые, разбирая книгу Соловьева, указал на новое характерное явление, которое, зародившись в рамках символистской школы как ее «неоклассическая» составляющая, в своем развитии возвещало ей внутреннюю альтернативу. Несколько лет спустя С. Н. Дурылин вновь написал о Сергее Соловьеве как выразителе «послушливого переимчивого нео-пушкинианства»: «…он был причисляем к лучшим нашим пушкинианцам, прекрасная ясность стала действительным достоинством его поэзии, ревность по строгой форме всегда была ему присуща» [28] Дурылин С. Луг и цветник: О поэзии Сергея Соловьева // Труды и дни. 1914. Тетрадь 7. С. 152. См. также новейший опыт интерпретации поэзии С. Соловьева: Скрипкина В. А. «Мира невольник»: (О поэзии Сергея Соловьева) // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 105—119.
.
Интервал:
Закладка: