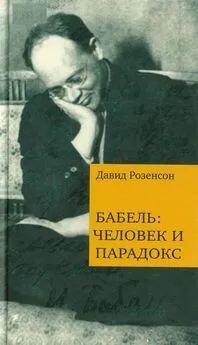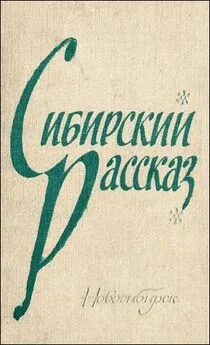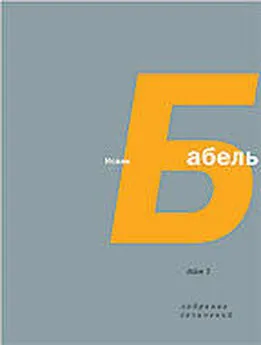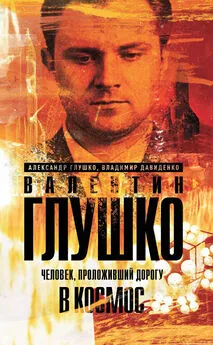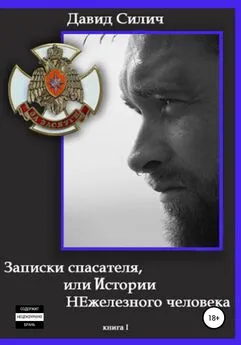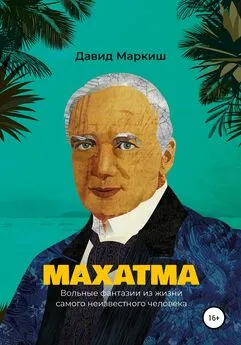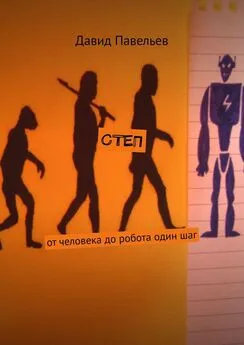Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс
- Название:Бабель: человек и парадокс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники, Текст
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1292-4, 978-5-9953-0373-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс краткое содержание
В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу. Вместе с читателями автор книги пытается найти ответ на вопрос: в чем сложность и тайна личности Исаака Эммануиловича Бабеля?
Бабель: человек и парадокс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В группе создателей журнала были Авраам Карив (Криворучко), Ш. Хабонэ (Требуков), Йосеф-Лейб Цфасман, Ицхак Каганов, Ицхак Норман (Симановский), Йохевед Бат-Мириам (Железняк). Г. И. Прейгерзон, который незадолго до этого познакомился с Плоткиным, знал о планах своих новых друзей, но не принял участия в работе над сборником. По-видимому, идеи «октябризма» и рождения из его недр «нового еврея» не соответствовали его идейной позиции. Однако он был в курсе дел и оказывал друзьям помощь в качестве консультанта.
Но прежде чем журнал «Берешит» появился на свет, он прошел долгий и мучительный путь. Работавшие в ГПУ (Главное политическое управление) евреи с особым пристрастием высвечивали слова и фразы, стиль, содержание журнала и подтекст. И напрасно, потому что это был сборник абсолютно просоветских текстов. Но излишнее рвение одного из функционеров — Чертока — охладил Ф. Раскольников, бывший за год до этого российским послом в Афганистане. Он заявил предельно просто: «Советское правительство не возражает против литературного творчества на языке иврит, тем более что на этом языке играют в театре „Габима“, и ничего, власти довольны!..»
И вот, наконец, первый номер журнала был напечатан, содержал около двухсот страниц, но…
…Осенью 1923 года в Москве, в зале Театра имени Мейерхольда (ТиМ), состоялся литературный вечер с участием писателей зарубежных стран. На вечере присутствовал Маяковский, читал стихи турецкий поэт Назым Хикмет, выступали многие писатели на разных языках. На Плоткина это произвело большое впечатление, и он подумал: если можно по-турецки, отчего же нельзя на иврите? И у него созрело решение издавать сборник на иврите. В эти планы он посвятил Криворучко, с которым был знаком еще с харьковских времен в годы Первой мировой войны. Криворучко поддержал его, тем более что он уже был одним из авторов вышедшего в том же году сборника «Цилцелей Шема». Затем к ним присоединились Цфасман и Норман [Ицхак Норман, выдержки из статьи которого в журнале «А-Ткуфа» («Эпоха»), приведены ниже]. Однако в работе над сборником сразу проявились их идеологические разногласия. «Я считал, — говорил Плоткин Прейгерзону, — что наш первый сборник должен быть проникнут идеями революции, я хотел связать иврит и революцию. Ибо я был совершенно убежден, что Октябрь стал самым главным явлением в нашей жизни. Но Криворучко доказывал, что не революция, а теория относительности Эйнштейна стала знаковой приметой всей нашей эпохи… Теперь-то я понимаю, что в его словах было много правды, но тогда, в 1920-е, его позиция казалась мне ограниченной…»
И снова борьба между революцией, призванной нести избавление, и реальностью других переломных событий, которые, как предполагалось, должны были выдержать теории советских идеологов и стать выше этих теорий.
Организационная работа по составлению сборника лежала на плечах Плоткина, и ему было нелегко совмещать это занятие со своей основной службой в военном учреждении. Йохевед Бат-Мириам, С. Требуков, Ицхак Каганов поддерживали взгляды Плоткина. В общей сложности работа над сборником отняла у Плоткина два года. Помимо стихов и рассказов авторов, в сборник вошли также критические статьи Авраама Карива о сборнике Шленского, рецензия Хабонэ о рассказах Хазаза.
Написанная для сборника статья Плоткина «После безмолвия» должна была стать программной. Но она вызвала разногласия между участниками сборника — особенно резко возражали Карив и Цфасман. Статья была сплошной апологетикой и преклонением перед идеями Октября, она призывала стереть из исторической памяти свою культуру и двигаться вперед!.. Но куда? Представляется, что точного ответа у Плоткина не было и тогда, и он ответил на свой собственный призыв через много лет в той же трогательной и исповедальной беседе со своим другом Прейгерзоном, когда высказывал сожаление о тогдашних своих убеждениях…
«Берешит» уделяет большое внимание еврейской тематике, но непреложной остается вера авторов в идеи Октября: они убеждены, что еврейская литература отныне будет вдохновляться идеями революции. Цви Плоткин (выступая под именем 3. Бройна) заявляет: «Революция — это наша единственная реальность, мы предпочитаем смерть агонии, загниванию прошлого».
Шимон Хабонэ требует «органической ленинской преданности». Он счастлив, что еврейское местечко с его символом — лавочником — уходит в прошлое, ибо «им нет места в советской действительности». В произведениях А. Криворучко и Й. Цфасмана заметна грусть по прошлому, но вместе с тем они смотрят в будущее, они видят перед собой новую жизнь, слышат новые ритмы на ровных улицах, которые лягут вместо кривых улочек их детства со скособоченными домишками…
В сборнике было напечатано шесть рассказов Бабеля.
«Я чувствовал по содержанию „Конармии“, — вспоминает Плоткин, — что ее автор не может не знать иврита. Позвонив ему, я вместе с Хабонэ отправился к нему домой.
— Нам бы хотелось, чтобы вы написали что-нибудь для нашего сборника…
— Но я не владею ивритом…
— Вы совсем не знаете его?
— Нет, я могу читать на иврите. Но вы можете перевести мои рассказы на иврит и показать их мне.
Тогда я, не откладывая, взялся за перевод, перевел пять рассказов, а Хабонэ перевел один рассказ. Мы отнесли их Бабелю, а затем, когда я пришел к нему за ответом, он сказал, что доволен переводом и что рассказы можно печатать и даже отметить, что они публикуются с согласия автора. Бабель поинтересовался, с какой целью мы решили выпустить этот сборник. Я признался ему, что мы хотим направить литературу на иврите в революционном направлении и нам бы очень хотелось выпустить несколько таких сборников…»
Бабелю пришлась по душе эта идея, и он взялся написать для второго сборника воспоминания о Менделе Мойхер-Сфориме и Хаиме-Нахмане Бялике. Естественно, что Плоткин был польщен и обрадован предложением Бабеля, но второй сборник так и не вышел, да и у самого Бабеля, надо думать, возникли иные обстоятельства.
Финал истории издания сборника «Берешит» оказался печален. В нем было столько грамматических ошибок, что зачастую пропадал смысл слов и фраз. Авторы сборника не сумели распространить его, и практически весь тираж сгнил в дровяном сарае родителей жены Плоткина. Таков был конец «Начала» и вместе с тем конец иллюзий, из-за которых пришлось вынести столько мук.
Ивритские критики в подмандатной английской Палестине заметили Бабеля сразу по выходе его первых книг.
О биографиях писателей и критиков, творивших в эти смутные времена (особенно второстепенных), часто известно немногое. Например, Ицхак Норман (Симановский; 1899, родился в Дубово, Украина; дата смерти неизвестна, но есть точные сведения, что умер он в Тель-Авиве) учился в университетах Ташкента и Ленинграда, в 1920-х в Самарканде преподавал в любительской театральной студии, где играли на иврите, а также преподавал иврит на курсах организации Ге-Халуц. В 1928 году переехал в догосударственную Палестину, работал чиновником в разных сионистских организациях. Публиковал статьи о литературе и театре, сначала по-русски, потом на иврите, и книги на иврите о «Габиме» и др. Был близок к тель-авивским литературным кругам 3-й алии (выходцев из России), но не был просоветским. В 1929 году Ицхак Норман во время работы для литературного журнала «Жатва революции» составил обзор новой и — благодаря революции — «другой» русской литературы. В своей статье, опубликованной в палестинском журнале «Га-Ткуфа» в 1929 году, он приводит пространный обзор русской литературы без упоминания еврейской темы и без слова «еврей». Сначала автор дает типологическое описание литературы, рожденной революцией, а потом с разной степенью подробности разбирает творчество отдельных прозаиков и поэтов. Он начинает со следующих общих утверждений:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: