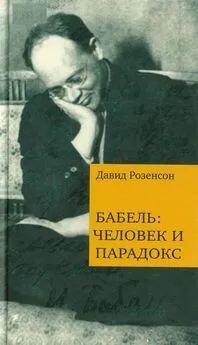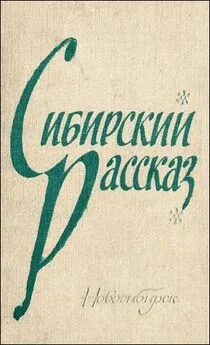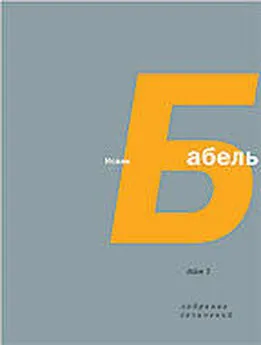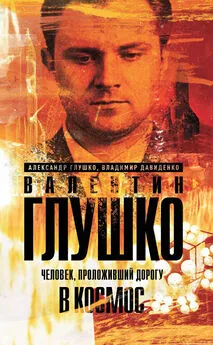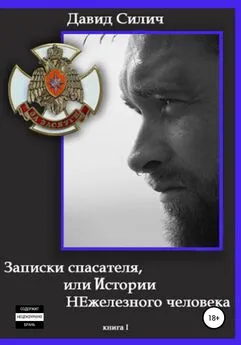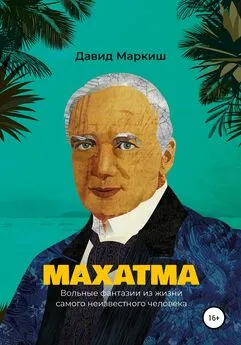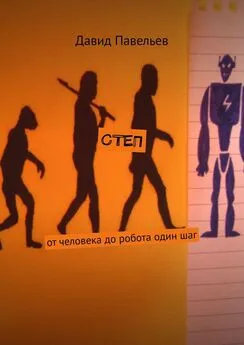Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс
- Название:Бабель: человек и парадокс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники, Текст
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1292-4, 978-5-9953-0373-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс краткое содержание
В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу. Вместе с читателями автор книги пытается найти ответ на вопрос: в чем сложность и тайна личности Исаака Эммануиловича Бабеля?
Бабель: человек и парадокс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Вера» — очень сильное слово, и никто не может заглянуть в голову или сердце другого человека и с уверенностью сделать заявление о крепости его веры. В то же время «Дневник», процитированный выше, как и письма Бабеля к родным, свидетельствуют, что Бабеля связывало с его еврейской идентичностью нечто большее, чем просто симпатия или воспоминания. Его привязанность к еврейским корням была гораздо сильнее, и в его творениях звучат очень сильные чувства, говорящие о его близости к своему еврейскому наследию.
Лея Гольдберг останавливается на словах умирающего Ильи: «Мать в революции — эпизод» — и пишет, что все, сказанное Ильей до того — революционные пропагандистские штампы, — опровергается одним человеческим словом «мать». И весь трагизм рассказов «Конармии» проистекает из этой фразы. Обсуждение этого рассказа Лея Гольдберг заканчивает, цитируя его последний абзац, в котором рассказчик (Лютов) называет себя «братом» умершего.
Лея Гольдберг характеризует книгу «Конармия» как «один из ужасающих документов русской революции» и пишет, что Бабель намеренно поместил в конец книги рассказ «Сын рабби» и его заключительную фразу (она цитирует ее вторично, выделяя слова: последний вздох моего брата), что независимо от того, что еще написал потом Бабель, все репрессии, которым он подвергся (она их перечисляет), могли обрушиться на него уже только за то, что он изобразил в «Конармии».
Лея Гольдберг пишет, что весной 1936 года ей попался номер «Литературной газеты» с отчетом о Съезде советских писателей, показавший ей: «…петля на горле писателей в СССР затягивается все туже и туже. Почти каждый каялся в грехах и обещал исправиться». Далее она приводит слова Бабеля: «Я не сторонник самокритики после содеянного. Писатель обязан заниматься самокритикой до того, как он пишет и публикуется», и добавляет, что уже тогда ее сердце сжалось от страха, и «всякий, кто знал о положении писателей и литературы в то время, когда социалистический реализм еще не был провозглашен единственным принципом, но девизом было: земля и фабрика, понимал, что проявленная отвага дорого обойдется Бабелю».
Далее Гольдберг цитирует последнее письмо Бабеля, написанное в Переделкине 10 мая 1939 года (из итальянского издания его переписки): «информации ради сообщаю, что уже два дня идет снег… чудное 10 мая!» — и пишет, что Бабель старается шутить и не показывать тревоги, хоть и признается, что не пишет прозу, работает над сценарием фильма о Горьком и собирается довести до конца «Великую криницу», из которой, добавляет Лея Гольдберг, «свет увидела только первая глава, а дальнейшую публикацию запретила сталинская цензура».
И снова Гольдберг подчеркивает: нам, как и семье писателя, неизвестно ни когда он погиб, ни где он похоронен. Она пишет: «Нонконформизм Бабеля начался не в сталинскую эпоху. Он начинается там, где начинается человек и писатель Бабель. Уже то, что еврей в очках оказался в составе Конармии Буденного, не являлось типичным для Гражданской войны. Обычное членство в Компартии и энтузиазм, охвативший многих евреев во время русской революции, дали им возможность занять военные должности и выполнять различные поручения, но это, как кажется, совсем не то, что произошло с Бабелем. Этот еврей, видевший, как его отец валяется в ногах казака-погромщика, хотел, вероятно, воплотить в жизнь мечту о других казаках и других евреях. В его выборе была своеобразная месть за прошлое, мечта о возмездии, разрыв с традицией, который, возможно, предоставит каждому человеку свободу в решении собственной судьбы, особенно если этот человек — еврей, и позволит ему по-своему продолжать ту часть традиции, которая будет ему дорога. Не случайно в указанной переписке он никогда не забывает отчитаться матери и сестре о том, где провел пасхальный седер, и спрашивает их, соблюдают ли они традицию предков и как они провели Песах. А в гражданский Новый год иронически замечает: „Поскольку Бога нет, нам придется сделать этот год продуктивным и рациональным“ ».
Лея Гольдберг пишет о сходном отношении к революции Блока и Бабеля как к «силе, которая сметет с земли мелкобуржуазную узость взглядов, унижение человека человеком, как бурю, которая очистит затхлый воздух царской цивилизации». И потому Бабель почти с любовью воспринял жестокость, о чем свидетельствуют рассказы «Конармии». Как и Блок, продолжает Лея Гольдберг, он стал задыхаться, когда после революции жизнь стала входить в устойчивое русло и «из благословенного океана поднялось болотное зловоние. И в двадцатых годах у Бабеля было достаточно творческой энергии и борьбы за свой неповторимый литературный стиль, чтобы не впасть в депрессию и не отступиться от прежних идеалов».
Лея Гольдберг пишет, что, как бы ни увлекала Бабеля идея коллектива, он всегда оставался особым индивидом, всегда держался отдельно. И единственная нерасторжимая связь с коллективом была лишь в его принадлежности к еврейскому народу. Здесь Лея Гольдберг делает чрезвычайно проницательное замечание относительно личности и работ Бабеля: во многих отношениях он одиночка, он работает сам по себе, и все же есть точка, где эта личность, это замкнутое пространство открываются другим: когда писатель имеет дело с вопросами, касающимися иудаизма. Иудаизм соединяет его с другими людьми, будучи религией, которая проявляется — будь то в молитве, изучении текстов, большинстве ритуалов — во взаимодействии с другими людьми. Это не религия затворников, дух которой стяжают в одиночестве; это религия общины, где дух обретается в общности и разделяется с другими. Слова Писания «бров ам хадрат мелех» («Во множестве народа — величие царя») (Притч., 14:28) являются принципом еврейского закона, который рекомендует выполнять предписания для исполнения Господней воли в составе как можно большей группы, чтобы оказать как можно большую почесть Богу. Более того, для многих молитв указано минимальное количество людей, необходимое при чтении, поскольку, собравшись вместе в этом числе, люди воздают должную честь Богу. Именно это, во многих смыслах, утверждает Гольдберг: как личность, Бабель хранил свои идеи под спудом, при себе; именно иудаизм позволил ему, интроверту в интеллектуальном (хотя и не в социальном) смысле, выразить свои литературные идеи публичным образом. И все его попытки предать свое еврейство оборачивались ранами, наносимыми любящим человеком. Наряду с этим Бабель органически влился в русскую литературу. В этом ему посчастливилось, потому что «двадцатые годы в России были годами великого эксперимента в литературе и вообще в искусстве. Евреи стали заметной силой в этом художественном прорыве и заняли центральное место в русской словесности, особенно в поэзии: Пастернак, Мандельштам, до известной степени Эдуард Багрицкий». И в прозе: «формалисты — Ю. Тынянов, В. Шкловский, В. Каверин, Леонид Гроссман… но их ценность более в существовании как группы», тогда как Бабель велик сам по себе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: