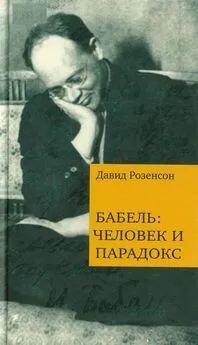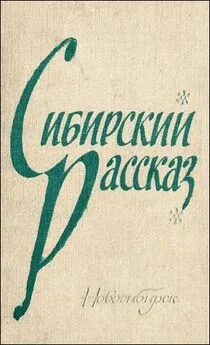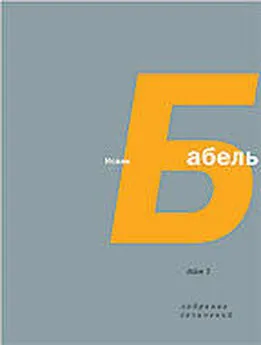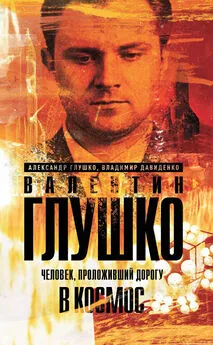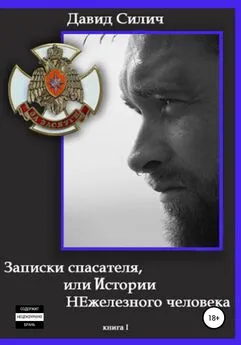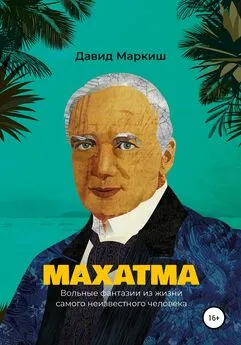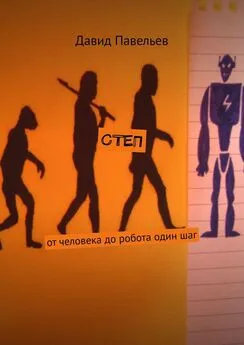Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс
- Название:Бабель: человек и парадокс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники, Текст
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1292-4, 978-5-9953-0373-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Розенсон - Бабель: человек и парадокс краткое содержание
В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу. Вместе с читателями автор книги пытается найти ответ на вопрос: в чем сложность и тайна личности Исаака Эммануиловича Бабеля?
Бабель: человек и парадокс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Возьмем предложения, вроде: („Илия, сын Азриила. — Д. Р. ) великий в суждениях, знатный в размышлениях, боровшийся разумом против забвения“, и даже предложение из авторского описания: „Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса“. Ведь их источник — тот источник, что таится в душе, — это ивритские тексты. И приятно видеть эти рассказы в этом переводе, когда они приходят к нам без всяких околичностей. Читатель, владеющий русским, дивится: каким образом автор этого рассказа сумел передать на прекрасном русском языке этот ивритский стиль, если почти все переводчики наших древних книг на русский язык так непростительно грешили либо против ивритского подлинника, либо против русского языка (включая и русский перевод Танаха)».
Гольдберг снова подчеркивает, до чего «ивритский» писатель Бабель, какая ивритская музыка звучит в его слове, в отличие от столь многих авторов и столь многих переводов, в том числе переводов Священного Писания (даже переводы Библии на русский, по словам Гольдберг, звучат не столь органично и подлинно, не так по-ивритски, как творения Бабеля).
Гольдберг прежде всего пытается описать язык Бабеля:
«Мы различаем в его творчестве по меньшей мере четыре языковых пласта: (а) виртуозный язык писателя, непогрешимый в грамматическом и стилистическом отношении и тем не менее индивидуальный, особенный; (б) поэтический торжественный язык, за которым различимы интонации библейской поэтической речи; (в) еврейско-русский язык и язык одесситов из мира людей вне закона (очевидно, лишь когда писатель передает нам прямую речь или делает рассказчиком человека вроде Бени Крика); русский язык, в котором различимо влияние идиша, когда его еврейские персонажи кое-как изъясняются по-русски. Интересно, что в переводе Шленского все эти четыре языковых оттенка сохранены и иврит в точности следует за русским подлинником».
Здесь снова, читая мастерский разбор Гольдберг, удивляешься, почему столь многие люди упустили «еврейскость» (и, согласно Гольдберг, даже «израильскость») стиля и обертонов в творениях Бабеля. Проницательный анализ Гольдбег, быть может, наиболее близок и полон значения для еврейского, израильского читателя, но он также представляет собой общую интерпретацию намеренно выбранного Бабелем стиля письма. Этот анализ заслуживает значительно большего внимания литературоведов.
«Но мы привели здесь этот короткий рассказ не только для обсуждения языка Бабеля. Да и слово „рассказ“, вообще говоря, не подходит к нему, он скорее похож на стихотворение в прозе. Читатель, который знает, что это козинское кладбище где-то на Волыни нежданно-негаданно возникает посреди цикла рассказов о Гражданской войне после Октябрьской революции в России, спрашивает себя: кто же этот пишущий (здесь и далее выделено Л. Г. — Д. Р. ) и перед кем встает образ четырех поколений хасидских раввинов на Волыни и глубины еврейской истории, запечатленный в безгласных камнях, говорящих своими ивритскими надписями в той жалкой усыпальнице, „нищей, как жилище водоноса“? Ведь пишущий приходит на это кладбище с отрядом казаков Буденного. И именно этот еврейский казак вспоминает погромы 1648–1649 годов и „склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого“. Ведь Бабель, как кажется, сбросил с себя все путы традиции и пошел к миру революции, и войны, и грез о свободе и равенстве всех народов, — а еврейская хасидская традиция следует по пятам за ним и за его поэтическими строками, и то, что называется архетипом его памяти, он черпает в истории своего народа, в квадратных буквах, из воспоминаний, которые являются не только воспоминаниями его детства, но и памятью поколений, диктующей ему не в одном лишь этом рассказе».
Как замечает Гольдберг и как многократно указывается в этой книге, невозможно отделить литературную личность Исаака Бабеля от еврейских мотивов, которыми пронизаны все его рассказы и пьесы. Бабель был и остается писателем, для которого еврейская история, еврейский народ, еврейские персонажи служат истоками, с которых часто начинаются и к которым неоднократно возвращаются даже самые короткие его рассказы (что видно на примере «Кладбища в Козине»).
«Этот короткий рассказ, где стерты границы времени, где настоящее и прошлое сливаются воедино, представляет собой картину кочующего народа, евреев в меховых шапках, которые как живые проходят перед нами, встают из-под надгробий, украшенных изображением рыбы или овцы. И в конце концов оказывается, что в этом коротком перечне рассказывается нечто — много больше, чем нечто, — об истории хасидизма на Волыни: надпись на надгробиях есть краткая история еврейской общины и царивших в ней настроений. Возьмем хотя бы имена: Азриил, сын Анания; а за ним — Илия, сын Азриила; а в третьем поколении уже имя еврея из галута — Вольф, сын Илии, словно не стало у него былого мужества „вести войны Всевышнего“ и способности „вступить в единоборство с забвением“. Как органично сочетается это имя с тем, что следует за ним: „похищенный у Торы на девятнадцатой весне“. А затем Иуда, сын Вольфа, и слова „сын Вольфа“ многое говорят нам о биографии девятнадцатилетнего юноши, умершего до срока, но уже женатого и имевшего сына. Этот Иуда, как явствует из надписи, не был жителем Волыни, но переселился далеко от родины, жил в больших городах — в святой общине Кракова и даже святой общине Праги. Как можно было умудриться нарисовать историю о величии и закате и о дальних краях без единого авторского замечания, рассказать длинную историю, ничего не рассказывая!
Квадратные буквы — именно они зачастую извлекали из глубины души этого писателя, писавшего русской азбукой и учившегося писательскому ремеслу у француза Мопассана, внутренний конфликт еврейского казака, отчетливо видящего смерть рабби Азриила, сына Анании, от руки казаков Богдана Хмельницкого, и в этом один из глубочайших моментов творчества Бабеля, творчества, которое борется с жестокой действительностью, растаптывающей все мечтательное, все нежное, что способен чувствовать человек. Одна действительность, высвечивающая кровь, дерьмо и жестокость свободы, и другая — та, что похоронена на старом кладбище, в книгах, оставшихся в полуразвалившихся синагогах, в хасидской истории, которая уже никогда не будет досказана до конца. Вот строки из рассказа „Сын рабби“:
„За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над Торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии…“ Еврейское царство один на один с революцией, как отличается оно от небесного царства и русского царского рода. Это — царство духовное, царство неимущих, царство тех, кто верит. Той веры уже не было в сердце Бабеля, но ее отпечаток еще не стерся».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: