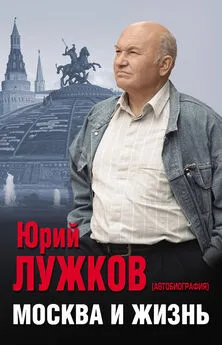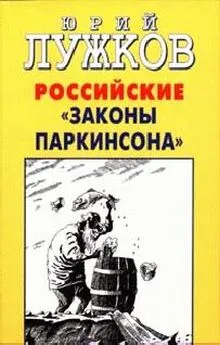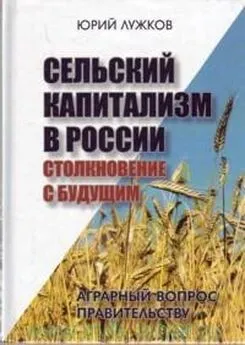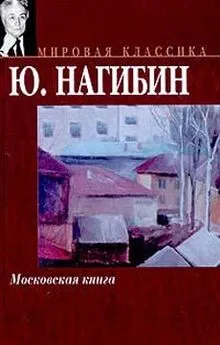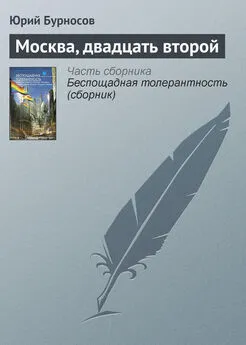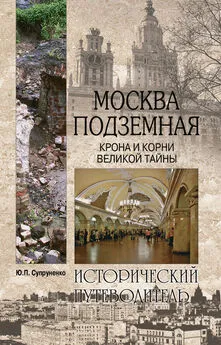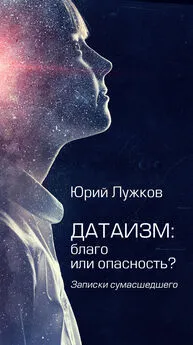Юрий Лужков - Москва и жизнь
- Название:Москва и жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Э»
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-088750-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Лужков - Москва и жизнь краткое содержание
В этой книге Юрий Михайлович искренне, иногда с юмором, иногда с грустью и даже болью рассказывает о своей судьбе, о друзьях и врагах и, конечно, о Москве — бесконечно родной и дорогой его сердцу. Юрий Михайлович делится впечатлениями от реновации, вспоминает, как его правительство снесло свыше тысячи ветхих хрущевок без всяких протестов и митингов; он рассуждает о Новой Москве, считая этот проект грубой ошибкой нынешнего столичного руководства.
Москва и жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как решать проблему? Можно ли ее вообще решить? Если мыслить глобальными категориями, ответ будет, конечно же, отрицательным. Привлечение на базы дополнительной рабочей силы (до двадцати тысяч москвичей в обычные дни) — настолько прямое следствие системы хранения, что избавиться от него, казалось, можно лишь с перестройкой структуры в целом.
Но тем и отличается стратегия подлинного хозяйственного реформаторства, что тут никогда нельзя заранее сказать, с чего начать и чем кончить. Так называемое «состояние перехода» — это «третья» система, не похожая ни на ту, из которой вышел, ни на ту, куда хочешь прийти. В ней приходится иногда жить очень долго. Искусство руководителя заключается не в слепом следовании общей идее, как бы верна она ни была, а в умении терпеливо и внимательно заменять блок за блоком, следя за тем, чтобы постройка не обрушилась и в ней можно было относительно нормально жить изо дня в день.
Возвращаясь к нашей капусте, надо сказать, что, привлекая к переборке картошки докторов и кандидатов наук, государство вело себя не столь уж расчетливо. Ведь за день работы на базах они получали в своих институтах такие зарплаты, которые превращали эту капусту почти в ананас. Прибавьте сюда бюллетени (от сквозняков, сырости и т. д.), добавьте «отгулы» сотрудникам, на которые шли предприятия, лишь бы отчитаться перед райкомами. И вы согласитесь, что если все вместе сложить, то, как говорится, появляется повод для дискуссии.
Не буду описывать эти дискуссии, бесконечные встречи и споры с работниками баз. Скажу лишь одно, самое главное: к тому времени сколотилась уже слаженная «команда». А значит, было с кем идти на штурм системы, преодолевая сопротивление остальных.
Я дал задание научно-исследовательскому институту (оплатив эту работу) все как следует подсчитать. Вопрос был поставлен прямо: сколько денег тратит государство на привлечение «добровольцев»? Получили цифру — пятьдесят шесть миллионов. И решили: если государство выделит нам в полное распоряжение половину этой суммы, обойдемся без привлечения москвичей на базы.
Идея обретала реальные контуры.
Началась усиленная работа по стабилизации кадров. Следовало добиться таких условий труда на базах, при которых рабочий ценил бы свое место не меньше, чем ценило начальство. Повысили ставки оплаты. Организовали обслуживание заказами. Выбили жилье, садовые участки. Наладили столовые в круглосуточном режиме. Сделали еще многое, о чем скучно писать.
И вот, когда все это проделали, отправили письмо Председателю Совета Министров. К письму приложили расчеты. Из расчетов следовало, что, если государство нам выделит двадцать восемь миллионов рублей, мы ему сэкономим столько же. Рыжков наложил резолюцию, по делу решающую, по форме оскорбительную: «В Госплан. Ситаряну. Проверить расчеты, внести предложение. В конце года проверить, не было ли обмана». Он явно не верил, что в какой-то системе нашего хозяйства можно сделать прорыв.
Ситарян подошел к делу честно. Дал указание своим службам проверить наши расчеты. И после признался, что получил цифру, намного большую той, на которую мы претендовали. Но не мог изменить природе своего ведомства. Дал ровно двадцать восемь миллионов. Теперь это был годовой фонд зарплаты, который можно расходовать не только на штатных работников, но и на всех, кто хотел бы подзаработать. Стали составлять списки таких людей. Организовали серию телепередач, информируя москвичей, куда обращаться. Распространили приглашения по учебным заведениям. Связались с руководителями кооперативов. Больше всего возни было, кстати, с собственными бухгалтерами.
Когда я потребовал платить за разгрузку вагонов не через двенадцать дней (по инструкции), а немедленно, те встали насмерть: «А вдруг один человек заработает восемьдесят рублей? А что, если у него алименты?» — «Платите, и все! И если кто вздумает не подчиниться приказу, пусть считает себя уволенным! Сам буду проверять!»
Система сопротивлялась.
Но с 1 июля 1988 года мы отказались от привлечения москвичей…
И тут же провалились.
Провал был обидным, потому что случайным. В тот год в Москву стала идти такая негодная продукция, что просто, как говорят, туши свет. Грузины прислали картошку, мелкую, как горох, с колорадским жуком. Мы захлебнулись с переборкой. Из Азербайджана пришли жуткие помидоры. Из Молдавии еще хуже. Все это не было случайным. Административный контроль уже не работал, а рыночные механизмы еще не были введены. В столицу сплавляли отбросы. Мы ввели новую систему чуть раньше, чем следовало. Но и откладывать 6ыло нельзя.
Моссовет трясло. Сайкин сам объезжал базы, всюду оставляя (скорее для моральной поддержки) своих заместителей. Райкомы, видя наши муки, предлагали дать втихаря людей. Директора баз умоляли и скандалили. Но на все мольбы и истерики я отвечал: «Нет, переживем!» И сейчас убежден, что если бы дал тогда слабину, система еще долго не выправилась бы от такого поражения.
Сайкин не настаивал на возвращении к старому. Совсем другую позицию выбрали деятели из ЦК КПСС. Там служили два корифея плодоовощного дела: Иващук и Капустян, которые, собственно, и загубили весь комплекс. Видя, что происходит, они подготовили так называемую «записку», смысл которой сводился к тому, что московский эксперимент больше отражает амбиции руководителей, чем реальные возможности плодоовощного комплекса.
В ЦК собралось совещание. Я предстал главной мишенью. Идея партийной критики одна — амбиции, авантюрность, угроза оставить москвичей без еды.
…Но вот по прошествии месяца система стала успокаиваться. Перешла в иное качество. Приспособилась к работе без привлечения москвичей.
Руководители районов облегченно вздохнули. Руководство города с недоверием смотрело на то, что произошло. ЦК умолк в ожидании. А дело потихонечку шло.
И когда на очередном городском пленуме партии первый секретарь горкома Зайков произнес с трибуны: «Нам удалась отказаться от привлечения людей на базы», — зал загудел. Докладчик запнулся и с удивлением смотрел, что напечатано у него в листках. В перерыве подозвал меня:
— Вы что, мне наврали?
— Во-первых, доклад писал не я. А во-вторых, там все верно.
— То есть как?
— Спросите любого секретаря райкома. Приезжайте на любую базу. Там нет ни одного москвича, направленного от организации или предприятия.
Тогда не удалось в магазинах Москвы создать красочную картину обилия разноцветных овощей и фруктов, как в Париже, городах Европы, картину, ставшую давно привычной и для наших овощных прилавков.
Но нет сомнения, что если бы тогда, в 1988 году, мы не отказались от привлечения «добровольцев» на базы, то уже в девяностом, а тем более в девяносто первом никто бы туда не пришел. И писали бы в одних газетах, что голод в Москве — следствие социализма, а в других — что это следствие перестройки… Москвичу-то какая разница?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: