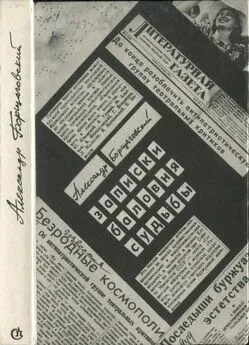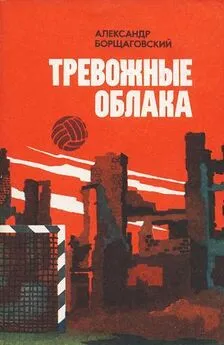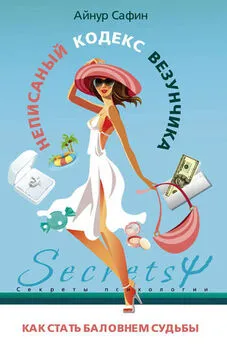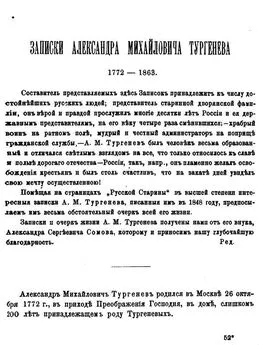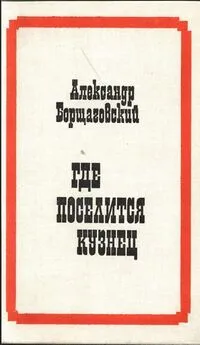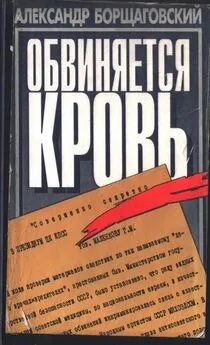Александр Борщаговский - Записки баловня судьбы
- Название:Записки баловня судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борщаговский - Записки баловня судьбы краткое содержание
Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией…
Записки баловня судьбы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Спите! В такую ночь спите! — презирает он меня. — Я вас поздравляю, Саша: врачи освобождены!..
Отвечаю не сразу, осмотрительно-холодно:
— Почему вы меня поздравляете? Мне-то что?
— Врачи, «врачи-убийцы» признаны невиновными! Поймите! — надрывается Борис.
Снова пауза.
Никогда особенно не трусил, но молниеносно обдумываю ситуацию: откуда он звонит глухой ночью? Из дому, что на Соколиной горе?
Ему подкинули ложный слух и теперь прослеживают, кому он звонит, кого может обрадовать такая новость… Зная общественную активность Бориса, огромный круг его друзей и знакомых, я в этот миг почти ненавижу его: сколько же беды он натворит!
Снова говорю ледяным тоном:
— Неужели из-за этого надо меня будить? По-моему, вы рехнулись: разберутся с ними без нас, если невиновны — отпустят.
— Нет, Это вы сошли с ума! Понимаете, что это конец провокации? Мне товарищ из редакции позвонил, газета уже печатается.
— Кто звонил?
Он называет ничего мне не говорящую фамилию.
— Вас могут обмануть, Борис. Спровоцировать.
— Чего ради?! — уже кричит он. — Зачем? Я вам первому звоню.
Зачем? Этого я ему не скажу. И не прощаю дурацкой огласки, что звонит мне первому. Я напряженно вслушиваюсь: не из редакции ли он набрал мой телефон? Не услышу ли я мужские голоса, дома у Бориса дети, жена, мать, прекрасная, гордая Елена Петровна, давно потерявшая мужа на Лубянке; дети наверняка спят.
А что, если Бориса взяли и звонит он с Лубянки, его заставили вести этот лабораторный эксперимент, измерение политической «температуры» сомнительных?
Понимаю, что это не так, голос выдал бы Бориса, а его тон непринужденный, ликующий, — все понимаю, но подсознание настороже. И я не стыжусь своей холодности, осмотрительности, не устыдился этого ночного разговора и утром, добежав до газетного киоска, убедившись, что сообщение напечатано. Не стыжусь и сегодня. Так складывалась затравленная, испоганенная жизнь, так изменялась не степень мужества, а, кажется, сами нервные клетки.
Жизнь среди провокаций, нелепых, преступных обвинений, которые тем не менее невозможно опровергнуть иначе как исправившись ; сама возможность встретить на пути грузного вельможу-литератора, который будет публично лгать о прошлом, о тебе и твоем труде, лгать вдохновенно, прикидываясь знатоком; сознание, что в издательство, с которым были связаны все твои надежды, являются с угрозами и знакомые Софронов, Первенцев или Суров, и какие-то еще неведомые мне доброхотные загонщики, требующие, чтобы Союз писателей не позволил мне «ускользнуть» в прозу, — такая жизнь не может не обострить в человеке чувства опасности.
А все еще нет ясности относительно «безродных» (на нынешний лад — «масонов») — пришел ли час облегчения или, напротив, не знать им отныне пощады? Можно ли печалиться их судьбой, когда страну сотрясают рыдания по потере высшей, сущей, Единственной. Большая мировая игра потребовала каких-то уступок, пришлось освободить врачей, однако же арестован Иоганн Альтман, в лагерь упрятан Саша Исбах.
В марте и случилось нечто такое, чего не объяснишь недоразумением или прихотью руководителей Союза писателей, — я уже вскользь упоминал об этом.
Как ни велика вина Фадеева в трагедии 1949 года, повторяю, его сотрясали не антисемитские страсти. Он хотел проучить непокорных, а что большинство из них оказалось в театральной критике евреями, этого ему было не исправить и не изменить.
Но вот март 1953 года, умер Сталин, а кто-то с достаточно большой высоты, откуда позволено командовать Союзом писателей, приказал избавиться от «балласта», от критиков и литературоведов, не проявивших в последние годы творческой активности. Молчащие прозаики, давно не публиковавшиеся поэты, драматурги, отвыкшие от света рампы, были прощены. В этих жанрах не подберешь подходящую группу лиц, однородную по национальному составу. С критиками все оказалось проще: легко нашлось более семидесяти молчащих критиков, с ними Союз писателей готов был расстаться без печали, они ведь оттого и молчали, что печататься им было запрещено. Цифру назвал докладчик Виталий Михайлович Озеров, перечислив для наглядности 10–12 кандидатов на изгнание, сопровождая их фамилии краткими комментариями.
В злонамеренном бездействии обвинялся Гурвич, которому чудом удалось напечатать начало журнальной статьи, мгновенно разгромленное и преданное анафеме. Ушел в ленинградскую типографию текст моей книги, и находчивый В. Озеров заявил: «Критики Борщаговский не пишет, романами, видите ли, занялся…»
Это была сознательная ложь. Мы получили письма, предупреждавшие о предстоящем собрании, с просьбой сообщить, что нами напечатано в последние годы и что пишется. Понимая близящуюся угрозу, каждый, посетовав на то, что мы не имели возможности печататься на протяжении четырех с лишним лет, сообщил и о том, какие рукописи, какие статьи написаны и лежат в столе.
Наши ответы никого не интересовали. Даже мой рецензент и защитник Алексей Сурков, еще недавно ратовавший за роман, отступился от меня, ушел в глухую и постыдную самозащиту. После доклада Озерова я спросил у Суркова, председателя этого собрания: как все это понимать? Ведь я написал роман, перевел на русский четыре повести Мажита Гафури, что случилось?..
Сколь высокой должна была быть команда гнать нас из Союза писателей, если Алексей Сурков, глядя мимо меня, хмуро ответил, что все правильно, Виталий Озеров прав, никакого нарушения нет, принимали меня в Союз писателей как критика, критической «продукции» я не даю, а выйдет роман — меня снова примут, уже как прозаика.
Виталий Озеров только расправлял крылышки, воспитанник нашего «пажеского корпуса» был бескрасочным, заурядным функционером, готовым осуждать, карать или миловать по первому кивку начальства любого ранга.
…Я покинул собрание, не дождавшись прений, которых, кажется, и не было. Уехал в городок Моссовета с сознанием, что рухнула последняя легальная опора жизни, отныне мне негде взять и пустяковой бумажки, справки, за которыми до сих пор я мог прийти к доброму человеку Тараканову. Мифом, странной, непрочной памятью сделался и роман. Правда ли, что где-то его набирают, держат корректуры, ждут верстки, вернее, не ждут, а хмурятся в предвидении такой возможности, не зная, под каким предлогом придется на этот раз сбрасывать сотни страниц в металле; позволит ли Агитпроп ЦК заматрицировать их до лучших времен, или подойдет пора ставить на книге точку.
Потеря невелика: я мог и не написать этой книги.
Никакие расходы (ведь не личные деньги, а казенные, государственные!) не помешают Лесючевскому вновь и вновь задержать выход книги или отменить его навсегда. Даже у К. Горбунова, с его скрытой претензией на принадлежность к литературной элите, даже у М. М. Корнева, словно бы случайно оказавшегося на ниве литературной, были свои пристрастия, привязанности, живое чувство долга; Лесючевский весь был недремлющий расчет, холодное лавирование, готовность предать. Ничего общего с Чагиным. Петр Иванович не вписывался в новые времена: перестав быть хозяином «дела», он вынужденно запутывал простейшее; хотел добра, но не справлялся с ситуацией; мучительно ждал минуты, когда можно будет, окончив день, бежать из оказенившегося издательства. Лесючевский весь, до последней клетки, был слит с пафосом оказенивания, был его певцом, все теснее увязывал каждый свой шаг не только с начальством Союза писателей, но и со Старой площадью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: