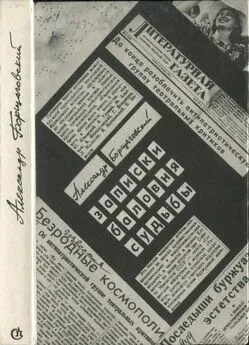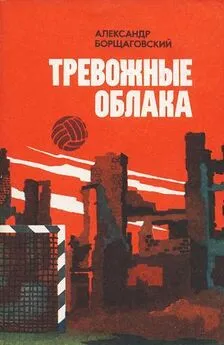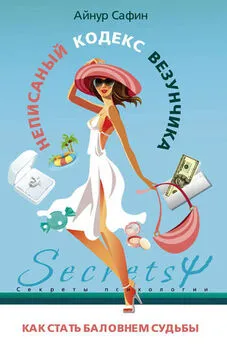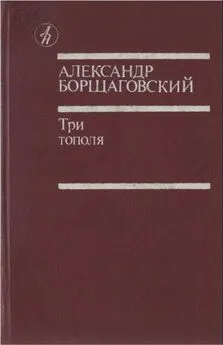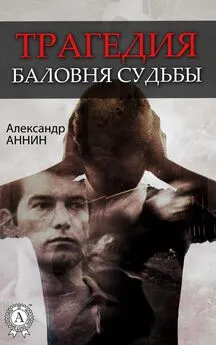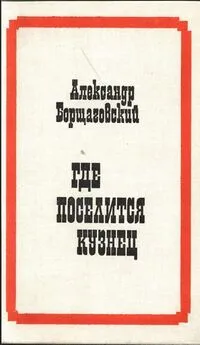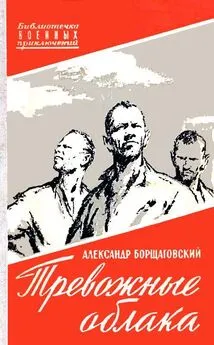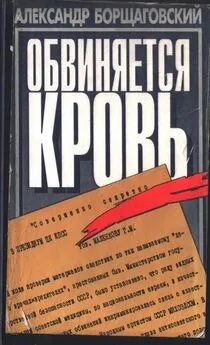Александр Борщаговский - Записки баловня судьбы
- Название:Записки баловня судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борщаговский - Записки баловня судьбы краткое содержание
Множество фактов истории и литературной жизни нашей страны раскрываются перед читателями: убийство Михоэлса и обстоятельства вокруг него, судьба журнала «Литературный критик», разгон партийной организации Московского отделения СП РСФСР после встреч Хрущева с интеллигенцией…
Записки баловня судьбы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вынужденное бездействие, невозможность заглянуть за стены ленинградской типографии, убедиться, что набор книги не остановлен телеграммой из Москвы, обреченные и почти бестревожные мысли, что вот с сегодняшней или завтрашней почтой придет выписка из решения секретариата СП СССР об исключении меня из Союза писателей, — вот чем были наполнены дни. Поразительно, но подобный приговор из секретариата СП СССР не показался бы мне чудовищной несправедливостью — ведь романа нет, а другие мои книги и полунаучные работы — театроведение, которому я давно изменил.
Так снова и снова, уже написав объемистую книгу и зная (нет, не зная, скорее чувствуя), что я мог бы писать и не совсем чужд литературе, я как бы внутренне снова примеривался к отъезду, к провинции, к какому-нибудь другому труду, который дал бы хлеб семье. Только не завлитом, только не в театр — здесь разочарование было сокрушительным.
Меня вывела из оцепенения телеграмма: умерла сестра. Только что врачи пообещали ей жизнь, даже позволили выйти в больничный парк, посидеть под нежарким солнцем ранней весны, и вдруг стремительно развивающийся отек легких и в два дня — смерть.
В Киеве, куда я помчался, все представилось в новом, жестоко обнаженном свете: сдержанная печаль ее мужа, давно отдалившегося от нее, хоронившего скорее собственную молодость, красивую и некогда общую у них, и скорбь сослуживцев сестры, плачущих, потрясенных так, будто именно они потеряли самого близкого человека…
А мы снова оставались без жилья, «лимит милосердия» исчерпан. Борис Костюковский и так сделал для нас невозможное, но подошли сроки, назначенные жизнью. Шуре с сыном и дочерью пришлось уехать из Иркутска в Москву, в квартиру, где они так надолго приютили нас.
Кто-то из киевских друзей рассказал мне после похорон сестры о Ходорове на Днепре, выше Канева, — о тамошней дешевизне, о старице и плавнях на ходоровском левобережье, и у меня созрело решение уехать туда на лето, убежать, оборвать все, уехать с девочками, с матерью, с пятилетней дочерью умершей сестры, вознестись в Ходоровский рай, а вместе с тем и в неизвестность.
Спустя годы я придаю какую-то систему событиям тех дней, а тогда было смятение, горечь, шаткость любого из житейских вариантов.
…Как-то в Лосиноостровске, ранним июльским утром 1950 года, выйдя на бревенчатый, с сорванными половицами остов балкона, я увидел на садовой скамейке военного моряка-офицера. Он бросился ко мне, я не сразу узнал брата моего отца Липу. Леопольда Исааковича Борщаговского, полковника медицинской службы.
Он приехал в Бабушкин (Лосиноостровск) на одной из первых электричек и терпеливо дожидался нашего пробуждения, угадывая, мною ли посажены грядки лука, редиски и два десятка помидорных кустов. Наш адрес он раздобыл через издательство, кто-то в Ленинграде сказал ему о книге, назвал «Советский писатель», это дало ключ к поискам. Мы провели с ним счастливые часы, сколько позволила Липе служба. Ушли его страшные тревоги обо мне: жив ли я, не «выселен» ли из Москвы (об этом ему в Ленинграде говорили не раз), не оставила ли меня Валя (такие слухи держались стойко), не сломлен ли я случившимся? Что ж, он нашел на Медведковской улице счастливых тогда людей, баловней судьбы: книга дописана, сдана, возникла иллюзия будущего благополучия (скорого, непременно скорого!), «Советский писатель» решился испробовать меня как переводчика прозы; Валя научилась прятать и от самой себя тревоги и была неотделима от меня, проницательный Липа ощутил это тотчас же, еще и по тому, с какой родственной нежностью и доверием Валя встретила и его самого. Они с первой же минуты стали друзьями, так, будто знали друг друга много лет. Скоро проснулись и девочки — Светлана, Аленушка, которой шел третий год, и Липа увидел семью — дружную, без раздражительности или душевного неустройства.
Начало года 1953-го выбило почву из-под ног. Мартовские события в Союзе писателей подтверждали худшие предположения.
Нужно было бежать из Москвы, освободить близких друзей от нравственного долга помогать нам, вырваться из того мучительного круга, каким стала для меня моя книга — вся в рубцах, истерзанная, изруганная челядью Лесючевского, казавшаяся мне теперь уродливо пухлой и никому не нужной.
И мы бежали в село Ходоров на Днепре.
Где-то на задах хозяйского огорода, в тени разросшегося у изгороди вишенника, чуть отойдя душой, я писал пьесу «Дом в Благодатном», — спустя год Валя удачно нарекла ее одним словом «Жена», под этим именем она и игралась потом в театрах Москвы и Ленинграда. В Ходорове все для меня было желанным отдыхом, даже то, как приходилось в толпе, с дебаркадера брать на абордаж пассажирский пароход, чтобы, если повезет, купить в буфете хлеб, пусть черствый, но хлеб, которого в Ходорове купить было негде.
Наступил день в последней декаде июля, знойный ходоровский день, — мы с Валей и девочками провели его за Днепром на старице, на прогретых солнцем песках, в камышах и под тенистыми вербами, в первозданном счастливом мире, который и знать не хотел о черных тревогах жизни, — когда, вернувшись, нашли в хате большую почту.
Липа прислал из Ленинграда — именно он, а не издательство! — тяжелую бандероль; экземпляр только что вышедшего «Русского флага». Я листал том со странным чувством отчужденности книги от меня, — все в ней уводило меня в прошлое, в прожитое когда-то с моими героями, и ничто не смотрело в будущее, ничто не обещало его, так, будто выход книги не есть начало чего-то, а только завершение, конец, вздох усталости. Некое средостение между мной и книгой, возникшее в ту минуту, никогда и не разрушилось до конца — книга не сливалась вполне со мной.
Верно, это месть, наказание за вынужденную самой жизнью поспешность, стремительность, с какой я проделал эту работу.
Судьба не дала мне и получаса успокоительных, самонадеянных иллюзий. Вот что в тот же день я прочел в пришедшем с почтой письме Бориса Яковлева: «С неделю назад на одном весьма солидном собрании Вадим Кожевников выступил с речью о… „Русском флаге“. Сначала оратор заявил, что главная задача нашей пропаганды и литературной критики это борьба против „культа личности“. Засим обрушился на злобинского „Степана Разина“, заявив, что это книга порочная и вредная, ибо она проповедует злокозненный культ личности. В заключение сообщил, что вышедшая недавно книга такого-то „Русский флаг“ в целом написана „с чуждых нам, марксистам, идейных позиций“, ибо „проповедует культ личности“. Основываясь на сем, оратор призвал собравшихся к соответствующей газетной акции. Выступление это на собрании было по счету последним, не вызвало никаких откликов, и к нему можно было бы отнестись с полным безразличием, если не видеть в нем подлую попытку сформировать авансом общественное мнение и повлиять на весьма занятых газетных людей, которые, быть может, и не удосужатся сами прочитать столь объемистую книгу… Вы можете понять охватившую меня тревогу». И далее недоумение: «…каким образом безгеройный роман, на страницах которого действует множество исторических и вымышленных лиц из всех классов общества, можно обвинить в злокозненном „культе“?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: