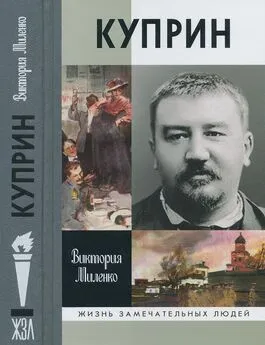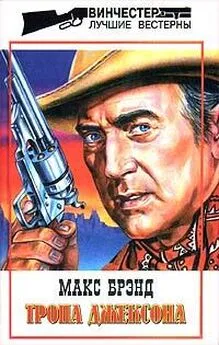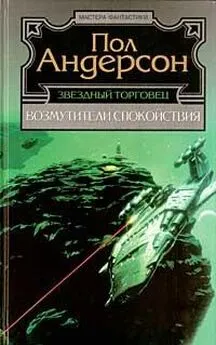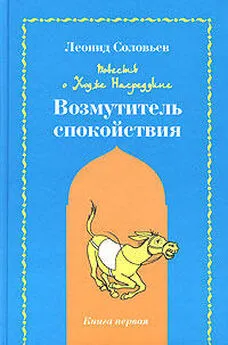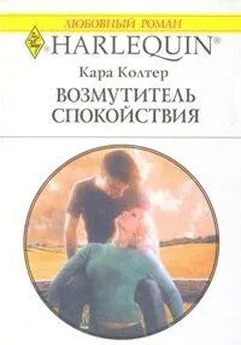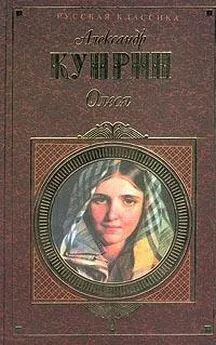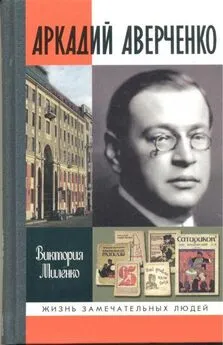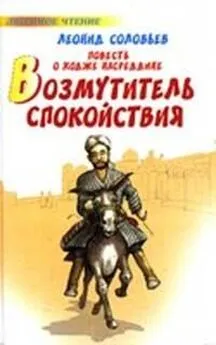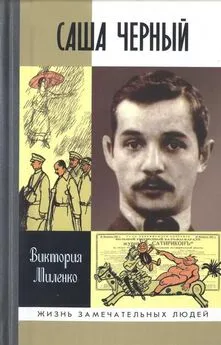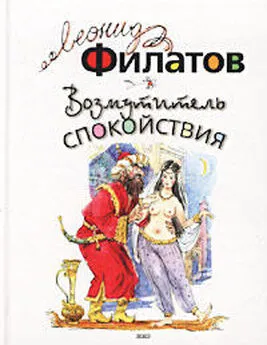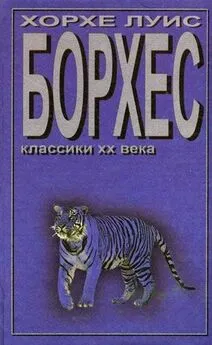Виктория Миленко - Куприн: Возмутитель спокойствия
- Название:Куприн: Возмутитель спокойствия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03913-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Миленко - Куприн: Возмутитель спокойствия краткое содержание
Куприн: Возмутитель спокойствия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«...“Юнкера”.
Ими Александр Иванович поставил последнюю точку для истории своего отношения к русской армии. В свете “Юнкеров” не остается уже никаких сомнений в том, что, создавая “Поединок”, Куприн болел душой за русскую армию, русское офицерство и с мужеством хирурга вскрыл те гнойные раны, которые были на теле армии» [382] Тарусский Евг. Юнкера // Часовой [Париж]. 1932. 15 ноября. № 92. С. 23–24.
.
Тарусский старался доказать, что его любимый писатель оказался гораздо честнее тех, кто когда-то ругал его за «Поединок»:
«Время не только лучший доктор, но и лучший судья. Уже пронеслись и великая война, и революция, и белое движение, и десять лет эмиграции.
Сколь многие из суровых купринских судей “продали свою шпагу”, украсили груди свои в дни великой и бескровной красными бантами, а потом не за совесть, а за страх служили большевикам. Но автор “Поединка” остался не только русским честным писателем, но русским честным воином, беззаветно и с великой радостью ушедшим в стан белых в Гатчине» [383] Там же.
.
А что же генералы? Они-то не могли не понимать, что не Куприн виноват в том, что «добровольцы» проиграли. Разве его вина в том, что русский народ отвернулся от «господ офицеров» и готов был примириться с анархистами, махновцами, петлюровцами, «зелеными», кем угодно, только не с ними? На эту тему невесело размышлял генерал Петр Краснов в рецензии на «Юнкеров»:
«Что же произошло с Русской Армией, когда она... так легко сдала перед большевизмом?
Над этим вопросом стоит очень и очень призадуматься и, самым внимательным образом перечитав прекраснейшие романы А. И. Куприна — “Поединок” и “Юнкера” — ответить самому себе, да точно ли Шульговичи, Осадчие, Стельковские и Сливы (персонажи «Поединка». — В. М. ) были только гнойниками, подлежащими немедленному удалению, или молодой писатель проглядел в них нечто, что было тогда от него скрыто под неприглядной внешностью?.. И не были ли гнойниками Назанские?..» [384] Гр. А. Д. [Краснов П. Н.] Литературные заметки // Русский инвалид [Париж]. 1933. № 51.
Краснов восторгался «Юнкерами»: «...песня, поэма в прозе, звучная стройная песня о далекой нашей молодости, о прекрасной, покойной поре, о домовитой, крепкой в любви и привязанностях, семейной, радушной, гостеприимной и патриархальной Москве» [385] Там же.
.
А вот генерал Деникин промолчал. Напротив, в книге «Старая армия» (1929) снова прошелся по «Поединку»: «Повесть эта была встречена в военной среде с огромным интересом, но вместе с тем и с большой горечью. Ибо, если каждый офицер, выведенный в купринском “Поединке” — живой человек, но такого собрания офицеров такого полка в русской армии не было» (курсив А. И. Деникина. — В. М. ) [386] Генерал А. И. Деникин. Старая армия. Париж: Родник, 1929.
.
Куприн называл роман «Юнкера» своей «лебединой песнью». Им он прощался и со своими читателями, и, возможно, с жизнью, потому что был очень болен. Судя по фотографиям, он резко сдал в 1930 году: как-то усох, сгорбился, растерянное выражение лица, вероятно, оттого, что он стал стремительно слепнуть. Одному из своих адресатов весной 1931 года жаловался, что зиму еле пережил: «Сначала провертел меня насквозь дьявольский ишиас, потом измучил сорокаградусный грипп, потом привязалась нервная экзема. Этот 1931-й год — сущее проклятие!». В конце проклятого года кто-то убил камнем Ю-ю, и Александр Иванович отвез тело своего друга на парижское собачье кладбище («Барри», 1931). А в следующем году у него, судя по всему, случился инсульт: резко изменился почерк. Бывало, беспричинно плакал, разговаривал глухим бесстрастным голосом. Тем не менее держался из последних сил и с июля 1931 года по июль 1932-го даже редактировал популярный журнал «Иллюстрированная Россия». Получалось с трудом: «рабочая» правая рука не слушалась, рукописи читать не мог, воспринимал на слух.
Куприн покинул «Иллюстрированную Россию». А вскоре пришла страшная весть. 5 августа 1932 года на юге Прованса скоропостижно скончался Друг — Саша Черный. Сердце... Трагедия случилась на Лазурном Берегу, в местечке Ла Фавьер, где возникла целая «колония» русских эмигрантов и где Александр Михайлович и Мария Ивановна Гликберг (или «Саша и Маша», как их звали друзья) купили участок. Куприн хорошо знал Ла Фавьер, вместе с «Сашей и Машей» они провели там чудное лето и начало осени 1929 года. Все там напоминало милый Крым: сине-седые склоны гор, вековые раскидистые сосны, виноградники, треск цикад, просоленные и прокопченные рыбаки. Александр Иванович даже написал о тех местах цикл «Мыс Гурон» (1929), в чем-то перекликавшийся с «Листригонами» о Балаклаве. Теперь ему больно было думать о том, что станет с Марией Ивановной — муж был единственным смыслом ее существования.
Куприны нуждались, к тому же Европу терзал тогда экономический кризис. Уютная квартирка с палисадником на бульваре Монморанси, где они прожили десять лет, стала неподъемна для оплаты. Пришлось переехать на рю Жювене, 20/22, затем очень скоро на рю Эдмон Роже, 12. Вместе с ними переезжала «Библиотека А. И. Куприна», которую Елизавета Морицовна все еще поддерживала. Ксения давно жила отдельно, и они завели новую кошку, получившую, конечно, имя Ю-ю. В одном из писем этого времени Александр Иванович рассуждал, что почтовая марка в Америку стоит полтора франка, и это целое состояние, на которое можно было бы купить десяток хороших папирос, а подкуривать у прохожих, или два стакана кислого красного вина, а на сдачу еще и спичками разжиться.
В таких печальных обстоятельствах и увидело свет отдельное издание «Юнкеров». Спасти бедственное положение Куприных гонорар за книгу уже не мог, хотя Александр Иванович возлагал на него надежды. Предполагаем даже, что он не возражал бы против выдвижения «Юнкеров» на соискание Нобелевской премии.
Еще с 1922 года наш герой был вовлечен в весьма неприятное соревнование: тогда впервые родилась идея номинировать на Нобелевскую премию кого-то из русских писателей-эмигрантов. Обсуждались кандидатуры Куприна, Бунина, Мережковского, Горького, Бальмонта. Александр Иванович в то время говорил: «Я чувствую, что если судьба даст мне маленькую передышку, то я все-таки напишу книгу, которая заслужит Нобелевскую премию. Это я задумал давно, а все мои замыслы, в пределах разумного и возможного, всегда исполнялись» [387] Письмо А. И. Куприна к Е. А. Ляцкому от 7 марта 1920 года // Письма А. И. Куприна. 1893–1934 гг. // search.rsl.ru .
. Такой книгой мог быть роман «Юнкера». Однако в 1933 году премию присудили Бунину. Не будем гадать, как наш герой это пережил; это для всех кандидатов в номинанты нелегко. Бунин сам был ошарашен. Когда его чествовали в редакции «Возрождения», всё говорил Куприну: «Милый... Я не виноват. Прости. Счастье... Почему я, а не ты? Я уже и иностранцам говорил — есть достойнейший» [388] Городецкая Н. И. А. Бунин в «Возрождении» // Возрождение [Париж]. 1933. 17 ноября. № 3090.
.
Интервал:
Закладка: