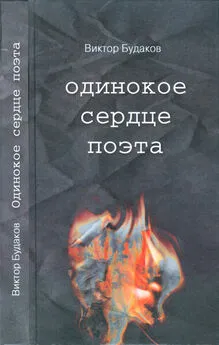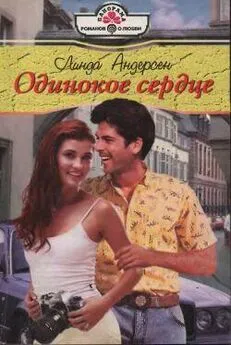Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта
- Название:Одинокое сердце поэта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр духовного возрождения Черноземного края
- Год:2005
- Город:Воронеж
- ISBN:5-900-270-74-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта краткое содержание
Книга издана при финансовой поддержке администрации Воронежской области
Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце поэта» — первое наиболее обстоятельное и серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом пути русского поэта, уроженца воронежской земли Алексея Прасолова.
В книге широко представлены документальные свидетельства, географические, событийные, исторические реалии. Образ поэта и его строки даны в контексте отечественной поэзии и истории.
Повесть «Одинокое сердце поэта», опубликованная сначала в газете «Воронежский курьер», затем в столичном издании «Роман-журнал. XХI век», вызвала большой резонанс в российском литературном мире.
Одинокое сердце поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(К месту вспомнить, что депутатский запрос Твардовского вскоре помог в освобождении и реабилитации трижды подвергавшейся аресту и заключению поэтессы Анны Барковой. Много старше Прасолова, но в чем-то ему близкой. В ее стихах есть трагизм слома, и одиночества, и роковой безбрежности — «Первый крик мой и тело сдавила тоска…», «…И в одиночку мы спускаемся в катакомбы», «Костер в ночи безбрежной, где больше нет дорог…» Едва не наизусть знавшая Достоевского, она перестрадала, перечувствовала многое трагическое, что пережила страна в первой половине двадцатого века, и она же еще в начале пятидесятых, в начале хрущевской «оттепели», смогла услышать предчувствие страною новых бед: «Чую, кто-то рукой железною снова вздернет меня над бездною».)
А 3 сентября 1964 года в Москве, в Малом Путинковском переулке, в редакции «Нового мира», Прасолов встретится с Твардовским. В редакторском кабинете, где прежде бывали в немалом числе знаменитости, где в ту пору не раз бывал Солженицын (уместно сказать, что прасоловское отношение к тогдашнему «Новому миру» сродни солженицынскому; иное дело непосредственная оценка солженицынского «Одного дня». В одном из писем Прасолов посчитал необходимым сказать, что ему «не понравилось, что автор — человек интеллектуального склада — спрятался за Ивана Денисовича». Замечание, пожалуй, скорее поверхностное, нежели справедливое. Как раз-то «интеллектуалы», «интеллигенты» и пеняли Солженицыну, дескать, почему главный образ его лагерной повести — простой человек из народа, а не интеллигент, об этом Солженицын вспоминает в книге «Двести лет вместе»).
Прасолов рассказал о встрече в «Строгой мере» — лаконичных, ни слова лишнего, воспоминаниях, положенных на лист 26 января 1972 года, за неделю до ухода из жизни. Эти воспоминания — как прощание. Как благодарное слово судьбе, жизни, русской классике. Пушкин, Бунин, Твардовский названы как пароль в будущее.
«Судьба дала мне встречу с одним лишь поэтом. Но им был Твардовский», — так заканчиваются воспоминания, и имя автора «Василия Теркина», быть может, последнее большое имя, написанное прасоловской рукой. Как из классиков Пушкин, так из современников Твардовский, — оба осознаются Прасоловым не только высшими носителями поэтического, но и даже большего, нежели поэтическое слово, и что есть сама высота и глубина жизни.
Короткая телеграмма от Твардовского — срочно слать стихи в октябрьский номер 1967 года, или короткое письмо от 16 января 1970 года, по части публикации прасоловских стихотворений — отказное и мягко зовущее уйти от «лирической академичности», — все это для Прасолова всерьез, отзывается в нем, фиксируется в его дневниках и письмах.
Однако и на любимого поэта он, по собственному признанию, не глядел суеверно. И тем более на возглавляемый им журнал, который не был сугубо детищем Твардовского и на который воздействовали самые разнородные силы. Вульгарный социологизм в журнальном разделе критики, готовом всех злых напустить против почвенничества, народных, православных, национальных начал, Прасолову естественно был чужд. В разговоре об этих началах для него статья-критика молодогвардейского сердечней и глубже, чем — критика новомировского.
Взгляд на Россию с тысячелетней историей для Прасолова дороже, нежели узкий, прицельный взгляд на Россию, словно бы только с революционного семнадцатого и начинающей свой путь; на страну, в двадцатом столетии отданной коммунизму, ищущей себя в нем, принимающей и преодолевающей.
Здесь Прасолов близок к Солженицыну, который чуть позже в очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом» обозначил суть вопроса прямо-таки по пунктам — их 11; Солженицын в статьях «Молодой гвардии» того времени услышал и увидел «мычанье немого, отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее», защиту духовного слова от базарного, защиту деревни, защиту церкви: «Какова б „М. Гвардия“ ни была, да хоть косвенно защитила религию. А либеральный искренно-атеистический „Н. мир“ с удовольствием поддерживает послесталинский натиск на церковь… Что за уродливая привязанность к „малой родине“?.. И почему бы это образный русский язык хранился именно в деревне?..
Раз по тактике надо Европу защищать — так чем плохо „М. Гвардии“ магнитофонное завывание в городском дворе? Или что в воронежской слободе „сатанеет джаз“, а Кольцова не читают? Чем поп-музыка хуже русских песен?..»
Солженицын, обязанный «Новому миру» обнародованием «Одного дня Ивана Денисовича», «Матренина двора», тем не менее смотрит на журнал открытыми глазами и зерна отделяет от плевел. Еще раньше Прасолов, не менее, чем Солженицын, обязанный «Новому миру», посчитает возможным или необходимым сказать: «Переоценивать „Новый мир“ не будем, — даже в том лучшем, чем я ему обязан! Да не покажется это неблагодарностью. На доброе я памятлив».
В прасоловской дневниковой записи за февраль 1968 года — рязанский адрес Солженицына.
Писательский билет
Свободный внутри (свободный — с неизменяемым чувством ответственности) он теперь — и на внешней свободе. Но как распорядиться обустройством внешней жизни, как войти в быт, хотя бы в мало-мальское благополучное существование? Прасолов никогда этого не умел. Да и не хотел. Не раз он об этом и говорил.
«Восторженность жизни и золотая ее полнота — это никогда не приходило ко мне ни в жизни, ни в стихах. И вряд ли придет. Когда я чувствую это, благополучие становится тягостней несчастья, и я в нем не живу, а тащусь до минуты взрыва… Я всю жизнь в черном теле, и часто такое клубится в душе, что стискиваешь зубы. Неужели все так благополучно?»
(из письма, ноябрь, 1962).«…Сколько еще носить мне в мире бесприютное сердце, сколько смотреть в глаза, в души, касаясь их, понимая и прощаясь с ними?»
(из дневника, запись декабрьская, 1965).«В голове — одно ясное сознание неблагополучия жизни. Я принимаю каждый день как возмездие за покинутое мной»
(из дневника, запись сентябрьская, 1967).«Мучаюсь, когда несчастлив, мучаюсь, когда счастлив…»
(из дневника, запись июньская, 1970).И все в том же роде, и все в том же духе…
Семья есть, но давно он и она — на разных берегах. Работа? Одна — вдохновляет, другая — изнуряет, третья… Но не работать же ему всю жизнь бутафором Воронежского музыкального театра? Туда его устроили по выходе из тюрьмы; нет ничего несуразней, несовместней этой связки: Прасолов и — какая бы то ни было бутафорическая сфера! (Впрочем, еще один настоящий и рано, в двадцать семь лет, ушедший из жизни поэт — Константин Козлов одно время — в год рождения Прасолова — работал в том же Воронежском, только драматическом театре, и даже не осветителем-бутафором, а ночным сторожем.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: