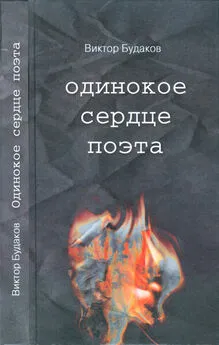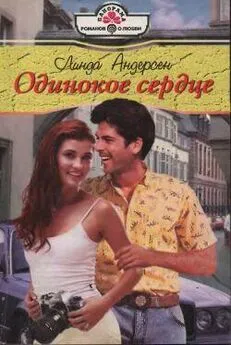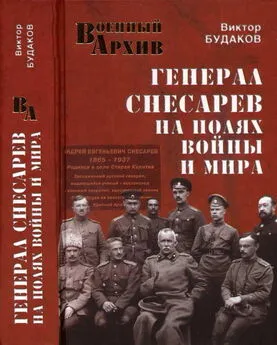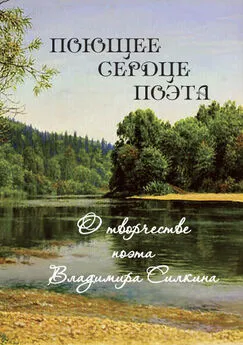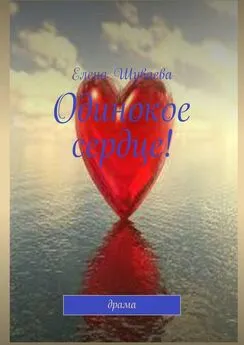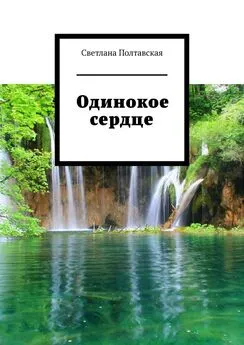Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта
- Название:Одинокое сердце поэта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр духовного возрождения Черноземного края
- Год:2005
- Город:Воронеж
- ISBN:5-900-270-74-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта краткое содержание
Книга издана при финансовой поддержке администрации Воронежской области
Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце поэта» — первое наиболее обстоятельное и серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом пути русского поэта, уроженца воронежской земли Алексея Прасолова.
В книге широко представлены документальные свидетельства, географические, событийные, исторические реалии. Образ поэта и его строки даны в контексте отечественной поэзии и истории.
Повесть «Одинокое сердце поэта», опубликованная сначала в газете «Воронежский курьер», затем в столичном издании «Роман-журнал. XХI век», вызвала большой резонанс в российском литературном мире.
Одинокое сердце поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Осенними, а то и зимними вечерами любил он забредать в сквер, недужный, из кленовых и акациевых малоростков. Подолгу стоял у безлюдной, безголосой танцплощадки. Вдруг взбирался на помост и — никому, или нечаянному товарищу, или всему миру под звездами — читал стихи. Зачем он приходил сюда? Зачем взбирался на жалкий эстрадно-танцевальный пятачок, по лету истоптанный множеством молодых ног? Да еще читал стихи в никуда и никому? Или надеялся аурой своего стиха рассеять иные, суетные, пагубные «дуновенья»? Увидав здесь однажды летом, в воскресный поздний час, водоворот молодых тел и лиц в раковине эстрады-танцплощадки, он напишет стихи с грустными, не по случаю экклезиастическим обращением к иному возрасту, иной судьбе: «Девочка, танцующего счастья знающему сердцу нет».
Знающему не то что счастья, но даже и покоя нет. И часа вне тревоги нет нигде — ни дома, ни в дороге, ни на земле, ни в воздухе. Тревога — в нем, над ним, под ним.
«Когда смотришь на землю сверху, становится душно: вся избита, размолота и затянута дымом, пылью, туманом. И какая тонкая оболочка жизненных газов окружает землю! Жутко. Ведь вся она будет в конце концов отравлена нами. И, летя, не уйдешь от земли…»
Как уйти и куда уйти? Рукотворно пересотворяется пространство, и где предел? Землю покидают извечные ориентиры. И возникают новые моря, а прежние высыхают, а задымленные дороги, как отравленные креповые ленты, опоясывают землю и небо. Ядерные взрывы циклопически терзают чрево земли. Ядерные взрывы на полигонах Невады и Семипалатинска, словно концесветные, эсхатологические грибы (миллионы незримых гробов) медленно взошли до туч, сами стали страшными тучами, отравили небеса. И на континенте, и в океане, на его атоллах, естество уступает мутационному натиску. И это — ноосфера? О такой ли мечтал Вернадский?
Позже в Москве, на проспекте Вернадского, обретет квартирный угол его товарищ, во многом единомышленник, кому он и адресует из районной Репьевки безрадостные строки о земле, какую человек отравляет и от какой человеку не уйти. (Письмо А. Т. Прасолова, 1965, октябрь — В. И. Гусеву.)
Владимир Гусев приезжал к Алексею Прасолову на Потудань, два дня провели в Репьевке и Истобном, днем им даже выпало тушить пожар — загорелась изба в Истобном, а две ночи почти напролет бродили ночными улицами. Долго стояли у братской могилы. Было задушевнейшее настроение, говорили о Лермонтове и снова о Лермонтове. О высоком, сильном и добром говорили, и было чувство будущего, и эта ночь, быть может, в чем-то напоминала южную ялтинскую ночь встречи Бунина и Рахманинова; хотя, разумеется, полевая даль не заменяла моря, как и море не могло заменить полевой дали; да и судьбы тех и других слишком разошлись и как судьбы, и во времени и пространстве.
Из Репьевки до Воронежа — дорога недальняя: часа два автобусом. Но выпадала возможность, Прасолов летал самолетом. Не самолет, а самолетик. Испытанный вдалеке от столичных аэропортов и трасс четырехкрылый «По-2», хлопотун-«кукурузник». Но «воздушная тема» взлетающего, летящего за облаками, раздвигающего звезды небесного корабля берет начало в Репьевке. И разве не взлетал здесь поэт вместе с той старой женщиной, что стала «героиней» его стиха «Вознесенье железного духа…» — сильного стихотворения, в котором высокую веру не съежить атеистическим холодком?
Правда, старуха, одобренью или суду которой подвержены земные дела, не осеняет себя крестом, а страхует. Неожиданное и, может, трудноуместное это сочетание «страховала крестом». Должное передать ощущение страха? Но чего бояться старой женщине, пережившей войну? Прожившей жизнь? И прожившей — в вере?
Взлететь да скоро и приземлиться: воздушный лет от Репьевки до Воронежа тих, невысок, малоопасен. Но малая Репьевка укоренена в земной шар, а в нем, на нем, над ним — все — опасность, все — испытание. Две-три воздушные ямы, не такие обрывные, как в горах, а легкие, малозаметные, наталкивают на мысль о Сент-Экзюпери, французском писателе и летчике, погибшем во Второй мировой войне где-то над Альпами или, скорее всего, над Средиземным морем. Летчик-писатель, не раз бывавший на волосок от гибели, терпевший катастрофы, вновь и вновь взлетал. Что двигало им? Не он ли, подобно глубоко тоскующему экзистенциалисту, полагал: «Возможно, победы нет вообще: не могут раз навсегда прибыть все самолеты…» В какой тьмине морской успокоился он? Поэт жестко, непоправимо видел альпийские отроги, хребты, колоссальные монбланы камня и снега, видел средиземноморскую пучину-гибель.
В «Чевенгуре» Андрея Платонова человек по доброй воле отдает себя глубине озера в надежде увидеть, «что там есть… пожить в смерти и вернуться». Люди нередко уходят из жизни, когда теряют вовсе не географический, житейский курс, а духовный. Когда теряют, а бывает, и вовсе не обретают самое главное. Книга Сент-Экзюпери говорит, что «самого главного глазами не увидишь». Разве что сердцем. Глубина человеческой истории, тайна ее жизни подобна глубине и тайной жизни реки, озера, моря.
И в сердце поэта имена близкого Платонова и далекого Сент-Экзюпери соединялись как имена братские, житейски никогда не сведенные, но соединенные запредельно, заоблачно, глубинно. Река Потудань текла и стремилась через моря в Средиземное море.
Нет, не худшие его были дни на берегу реки Потудань. Но заверчивало и на ровном. И поэт сам себе не мог ответить ясно: именно он все сделал для того, чтобы быть из редакции уволенным? Но от поэзии его никто бы уволить не смог, разве лишь Тот, кто дал ему дар поэтический.
Лето шестьдесят шестого для Прасолова — воронежское. С конца мая и по начало сентября он прописан и живет в частном домике на исходе улицы Плехановской, ныне Московского проспекта, на выезде из Воронежа, где городская улица плавно сменялась загородным Задонским шоссе. Кров ему предоставил Виктор Шуваев, «физик и лирик», инженер с чутьем к поэтическому слову.
В уличном отростке-тупичке, в небольшом домике, в маленькой комнатке все лето прожил поэт. При взгляде на окна два огромных пирамидальных тополя невольно напоминали о тополиной Россоши. Близко от домика — аэропорт. Еще ближе — кладбище: в его чугунную ограду упирался усадебный дворик. Старинные внутригородские божьи нивы Воронеж потерял — пустил под парки и застройки, и это кладбище с несуразным и невольно многозначительным названием «Коминтерновское» вышло в главные и обихоженные. Но и здесь были могилы, преданные забвению, вне родственного пригляда. Ни живого цветка, ни ритуального крепа… Лишь «у забытых могил пробивалась трава» — Прасолов нередко вспоминал вслух эти блоковские слова, когда, срезая угол к аэропорту, продирался через кладбище, мимо притененных густокронным зеленым пологом могил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: