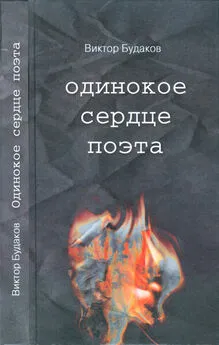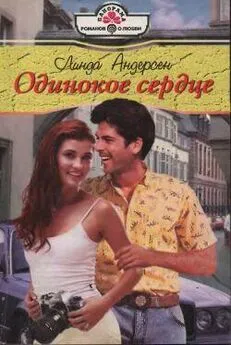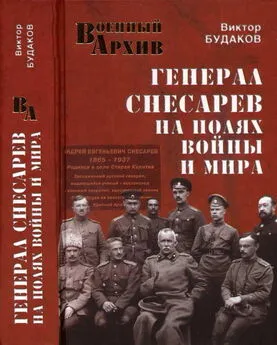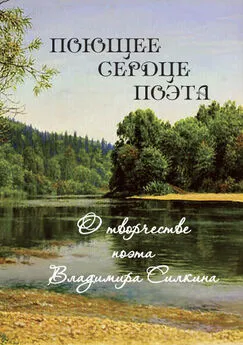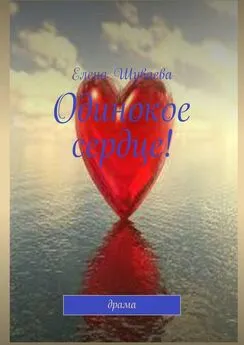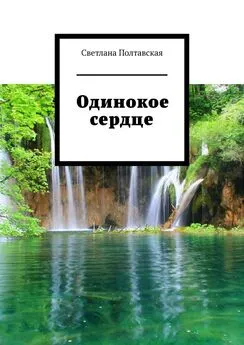Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта
- Название:Одинокое сердце поэта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр духовного возрождения Черноземного края
- Год:2005
- Город:Воронеж
- ISBN:5-900-270-74-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Будаков - Одинокое сердце поэта краткое содержание
Книга издана при финансовой поддержке администрации Воронежской области
Книга Виктора Будакова «Одинокое сердце поэта» — первое наиболее обстоятельное и серьезное лирико-биографическое повествование-исследование о жизненном и творческом пути русского поэта, уроженца воронежской земли Алексея Прасолова.
В книге широко представлены документальные свидетельства, географические, событийные, исторические реалии. Образ поэта и его строки даны в контексте отечественной поэзии и истории.
Повесть «Одинокое сердце поэта», опубликованная сначала в газете «Воронежский курьер», затем в столичном издании «Роман-журнал. XХI век», вызвала большой резонанс в российском литературном мире.
Одинокое сердце поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Аэропорт и кладбище — как две пространственно-временные сущности бытия. Движение и покой. Не духовное, пусть технократическое устремление, но все же — ввысь, к небу. И вечная недвижность бренного праха — ушедшего человечества, приговоренно уложенного в темь земли.
Стоял близ летного поля и — когда недолго, а когда и подолгу — глядел на взлетающие самолеты. Не поднебесные реактивные лайнеры, но обычные одномоторники на недальние рейсы. Или каждый из них — тот же «парус одинокий в тумане моря голубом»? А душе сверхскоростные небесные корабли — к чему они? В любую даль и в любую высь восходит она. Как и дочь ее — муза.
Резко разворачивался, резко уходил.
Иногда с товарищем, гостеприимным хозяином дома, у которого при его инженерной должности водились деньги, забредали они в аэропортовский ресторан. Обедали, выпивали две-три рюмки. Иногда читали что-нибудь из классики.
Случалось, уходили за памятник Славы на Задонском шоссе, в поле, к истоку густо заросшего терном оврага. Там поэт раздевался, как на пляже, и долго сидел или полулежал так, словно надеялся вобрать в себя все тепло солнца, вобрать землю и небо. Все смыкалось, как в его стихе, — и «июля солнечная власть», и из предпрошедших времен тяга «к земле по-древнему припасть».
Из-за этого несколькими годами назад на его родине случилось с ним грустное не менее, чем курьезное. В солнечный летний день он, чтобы побыть совсем-совсем одному, ушел далеко в глубь поспевающего хлебами поля. Снял рубашку, майку и разжег костерок. Костерок был замечен. А тем годом советская ракета сбила американского летчика-шпиона Пауэрса. И иным казалось, что Пауэрсы могут объявляться и у них. Бригадир, не мешкая, собрал народ, человек двадцать, и те пошли крутой тетивой охватывать возможного «Пауэрса». Истолкли гектара три поспевающей пшеницы, пока не натолкнулись на раздетого, худотелого, невзрачного… да кто же знал, что ему невыносимо надо было «к земле по-древнему припасть»?
Многие видели в нем нескладное и внеукладное. Да еще небольшой рост. Будто Пушкин, Лермонтов или воспетый ими Наполеон — с версту коломенскую. И лишь немногие видели прасоловскую совестливость и детскость, улыбку утреннего отрока.
Три месяца воронежского лета отдал Прасолов газете «На городских магистралях» — многотиражке трамвайно-троллейбусного управления. Многотиражка — это даже не районная газета…
Он мысленно проехал по тем былым маршрутам, трамвайные звонки с которых доносились в раскрытые окна «Молодого коммунара», когда он там работал, и весело, резко-разливчато оглашали главную городскую улицу и спуск к Чернавскому мосту.
Далее в неделю исколесил весь город, все больше трамваем. Получился некий трезубец, черенок которого — привокзалье, а рельсовые зубцы — маршруты на левый берег, по улице Плехановской и в сельскохозяйственный институт. И подобие гнутого круга тоже получилось: от вокзала — через Клиническую и Плехановскую — до вокзала.
Привычное для городского жителя — рельсы по улице, рельсы через площадь. Но — пространство, из которого нет выхода? Изо дня в день едва не весь город передвигается под электрическим током. Вперед — назад. Туда — обратно. Но нет трамвая, который вынес бы не в бесконечность, а хотя бы в задонскую полевую даль. «Вот — голубой трамвай прозвякал…» Но далеко он не уедет, он — пленник на колесах, пленник рельсов, пленник города. Ему, как оставленному в детстве мальчику, из круга не выйти, не убежать.
Три месяца показались за три года.
Еще короче — два месяца в начале шестьдесят седьмого — его газетная поденщина в Кантемировке, в редакции местной районки.
После осени с ее непролазью-распутицей на земле и низким серым пологом неба, стылого, равнодушного, словно бы потерявшего солнце, по-украински опрятная, заметенная белыми снегами Кантемировка предстала Прасолову как санная дорога в детство. В детские дни ему выпадало бывать в слободе — райцентре, которому тогда административно подчинялась его Ивановка.
В местном обиходе название Кантемировки привычно соотносилось с фамилией молдавского господаря Дмитрия Кантемира, пришедшего на верную службу Петру Первому. Никто уже не помнил, что некогда была Алексеевка, она ж Таракановка, названная так по имени и фамилии генерала, который самовольно заселил своими крестьянами местность близ впадения реки Федоровки в реку Богучаровку. Ретивого генерала с поселенцами столичная власть скоро спровадила подальше, поскольку окраинные эти территории русский самодержец пожаловал своему молдавскому сподвижнику и сонеудачнику по Прутскому походу. Кантемир-отец хотел видеть наследником земель младшего сына Антиоха, будущего поэта и дипломата. Однако после смерти императрицы Верховный Тайный Совет определил майорат — здешние земли и поместья — во владение старшего сына Константина, военного. При Константине и образовалась здесь слобода, в связи с ним называлась то Константиновка, то Кантемировка, пока окончательно не утвердилась последняя.
Название слободы всякий раз вызывало у Прасолова две ассоциации.
Одна — ближняя: Кантемировская дивизия действительно железная — танковая (восточное слово «темир» обозначает «железо»). Танкисты, в будущем «кантемировцы», освобождали в начале сорок третьего его малую родину — Кантемировку, Митрофановну, Россошь, и он словно бы все еще слышал гул и грохот танков, навсегда увиденных детскими глазами в заснеженных полях.
Другая ассоциация — дальняя: династическая, фамильная. Но обращенная все-таки не к господарю, не к старшему его сыну Константину, но к младшему — поэту Антиоху Кантемиру.
Запись в дневнике, сделанная в Репьевке в октябре 1965 года: «Нужно найти поэтов XVIII в…», невольно заставляет задаться вопросами. Прежде всего, какие поэты подразумеваются? Зарубежные? Отечественные? Речь, наверное же, не о Гете, который принадлежал как веку восемнадцатому, так и девятнадцатому, — великого немца Прасолов знал хорошо. И не о Ломоносове или Державине — их он тоже знал не хуже, чем великого немца. Может, Кантемир, Тредиаковский? Едва ли. Они хотя и были в творческом противостоянии друг другу, но оба словно бы на одно лицо, назидательно-скучное. Правда, Кантемир не успел по-настоящему развернуться, он прожил-то всего тридцать пять лет. Но, что ни говори, не античный Ювенал и не скоробудущий Крылов: кантемировым сатирам, тяжелым, как незрелые плоды, до ювеналовых не ближе, чем Кантемировке до Рима; да и до крыловских басен — что Кантемировке до Санкт-Петербурга.
Всерьез заняться и тем более вдохновиться тяжеловесными строфами не выпал час. За газетной текучкой и бытовыми нескладицами — не до сатир позапрошлого века. К тому же текущая жизнь требовала своих сатир, но на районных газетных полосах, малоформатных и привыкших к позитивному пафосу, им не дано было разить своими стрелами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: