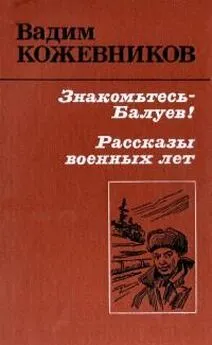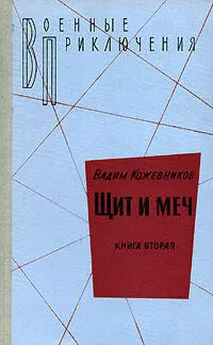Вадим Кожевников - Годы огневые
- Название:Годы огневые
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Кожевников - Годы огневые краткое содержание
Годы огневые - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Товарищи драмкружковцы, сколько огорчений и ссор возникает у вас на почве неподеленных ролей, сколько страданий причиняет вам то, что в пьесе мало ролей, а вас много. Вот вам огромное поле деятельности. Разве вы не могли бы систематически устраивать в клубе громкие читки? Художественное чтение приобретает у нас все большую популярность. Но нет, вожделение к огромным формам настоящих театров заслоняет у нас зачастую этот участок интересной и благодарной работы.
В работе наших клубов существует какая–то незыблемая яростная любовь к монументальным формам работы. Если в клубе идет постановка, то она непременно сопровождается ленивыми никчемными блужданиями по фойе в антрактах, если вы вздумали зайти в какую–нибудь секцию клуба, закрытая дверь ответит на ваш робкий стук суровой немотой. Во время многочисленных докладов с их громоздкой напряженной тишиной клубная работа сочувственно замирает, и нет того, чтобы взять да и организовать в перерыв доклада танцы или игры. Зато уж если вечер танцев, то весь клуб будет сотрясаться в гулком грохоте ног. Но чтобы сочетать одновременно все многообразие клубной работы, чтобы каждый посетитель имел возможность активно включиться в яркую и разнообразную работу клуба — этохю у нас еще нет. И что же в результате? А в результате вот что: клубные кружки в своей работе придерживаются мрачной таинственной замкнутости — это скорей не кружки, не секции, а секты, с наглухо закрытыми дверями, где под табличкой «Драмкружок», «Фото», «Изо» висят суровые предупреждения, что входить, мол, посторонним не рекомендуется. Кружковцы с явно недосягаемым превосходством смотрят на свежих посетителей, лица кружковцев замкнуты и сердиты, они заняты, они вечно готовятся к каким–то сверхторжественным грандиозным выступлениям. Ведь клуб, по их мнению, — это лаборатория, где они готовят себя к высокой деятельности, а посетители клуба — это так, принудительный ассортимент.
Но вот что же остается делать обыкновенному рядовому члену клуба, который не посвятил себя тому или иному славному ордену «драм», «фото», «изо» и т. д.? Что делать ему, если у него в доме тесно и крикливо от маленьких детей, что делать ему, когда хочется просто по–человечески потолковать со своими приятелями о производстве, о самом себе? Да вообще мало ли есть о чем поговорить со своими друзьями! Ему хочется уютной спокойной обстановки, хочется немного развлечься. Ведь клуб потенциально может вполне удовлетворить такого человека.
В Пролетарском районе Москвы, возле площади им. Прямикова, есть тощая церковь, носит она, кажется, имя преподобного Сергия; погруженная в сырость дряхлых тополей, церковь взметнула в небо облезлые кулачки куполов. И вот здесь, в ее мрачных сводах, догнивают старинные старушки и старички. А во дворе церкви — клуб. Ситуация очень необычная для нашего времени. Клуб им. Баскакова — очень маленький, вместимость не более 500 человек.
Весь клуб недавно отремонтирован, и потому в нем все так ярко и чисто. Миша Растопчин с графом Растопчиным, московским генерал–губернатором (помните в «Войне и мире»?), в родословной связи не состоит; рабочий, бывший Красноармеец, коммунист. Миша Растопчин завклубом, завхоз, завфин и прочая и прочая — ведь он за недостатком в штате совмещает в себе чуть не десяток должностей. Растопчин водит меня по клубу — и, еле сдерживая ликующую улыбку, с наслаждением вдыхая сладостный для него запах свежей краски, говорит:
— Ты, если что заметил плохое, прямо говори, мне это сейчас важнее всего. Хочу, чтоб мой клуб был самый лучший. Понял?
Ну как не понять. Да, клуб хорош; правда, в нем нет ослепительной театральной мощности, ведь зрительный зал всего на 500 человек, но в нем уютно и удобно, а это главное. А ведь трудно было приспособить берложий приземистый флигель, раздвинуть его незыблемые капитальные стены и в сырые щели окон вправить куски светлого неба. Растопчин говорит о клубе долго и с увлечением. Он жалуется, что клуб территориально отдалей от самого предприятия — завода «Электропровод». Ему бы хотелось, чтобы рабочие после работы заходили в клуб просто так, посидеть, поговорить. Двери всех секций открыты, кто чем хочет, тем и занимается. Дежурные инструкторы организуют хоровое пение, танцы, физкультурные занятия, учат рисовать, фотографировать, чтобы, в общем, люди чувствовали себя в клубе, как дома, а то и лучше. Кто не хочет заниматься ничем, пусть сидит в буфете за чистеньким столиком, пьет чай и балакает. Нужно добиться того, чтобы посещение клуба было не случайным, а стало привычкой!.
— Вот организовал я курсы кройки и шитья, — продолжает Растопчин. — Женщин набралось много, в быту это необходимая штука. Пришли, конечно, с одной целью — научиться шить и больше ничего. Но, когда вгляделись в клубную работу, втянулись, стали принимать участие. Вот курсы давно уже окончили, а в клуб все равно ходят. Среди них было очень много отсталых. Нужно уметь заинтересовать клубом. Такие вот утилитарные курсы дают блестящие результаты. Словом, — заканчивает Миша, — вот церковь рядом работает по всем правилам церковного дела, а чувствую я, что хочешь ты озаглавить свою статью «Кто кого» или еще что–нибудь в этом духе, а глупо будет. Ты не обижайся, — ну разве можно сравнивать трактор и ослепшую, с трясущимися от старости ногами клячу?
Миша подошел к окну и щелкнул шпингалетом — новым, добротным, напоминающий ружейный затвор, — распахнул форточку, и громкоголосые шумы города в пестроцветном сиянии ворвались в шумы клуба и слились с ними.
Выйдя из клуба, я заглянул в раскрытые двери церкви, в сумрачной мгле сквозь желтые мерцающие огни свечей я увидел тощие лики угодников. Несколько темных фигур копошилось в поклонах, священник тянул что–то унылое, панихидное — жуть.
Я двинулся дальше, и наша веселая московская улица огромыхнула меня живительным светом и шумом.
1932 г.
ПРЫЖОК С НЕБА
Лондон. 1697 год. Сырость, слякоть, туман. Моросит мелкий, холодный дождь. Гулко стучат колеса кебов о неровную скверную мостовую. Еще рано, нет 5 часов, но люди из–за густого тумана идут ощупью, разгребая руками сизую мглу. Юные клерки с согнутыми преждевременно позвоночниками, с бледно–зелеными лицами, кутаясь в потертые пледы, торопятся пробежать быстрее пространство, отделяющее их полутемные, холодные мансарды от банков и контор, в которых они просиживают по десять часов на высоких стульях за покатыми конторками, набивая годами работы мозоли на тощих ягодицах. Изредка в тумане мелькнет тусклое пятно фонаря экипажа, потом опять липкая серая мгла затягивает глаза сырой пленкой.
Люди идут скорчившись, плотно стиснув губы, стараясь как можно меньше наглотаться ядовитого туманнослякотного лондонского воздуха. Слышатся отрывистые фразы, они исходят откуда–то из недр желудков — глухо, как у чревовещателей. Английский язык, очевидно, в некоторой мере обязан лондонскому климату своим невнятным, сквозь зубы процеженным глухим тембром.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
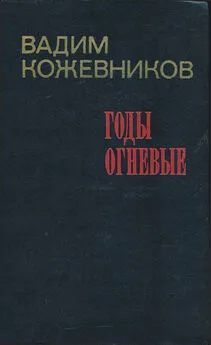

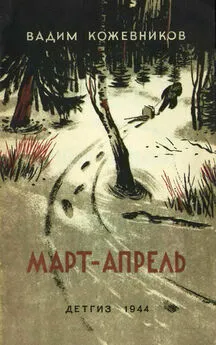
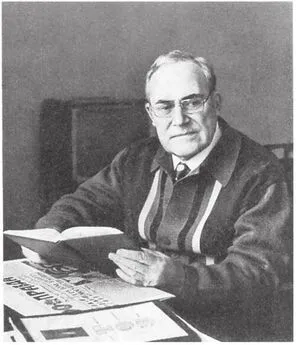
![Вадим Кожевников - Разведчики [антология]](/books/530181/vadim-kozhevnikov-razvedchiki-antologiya.webp)