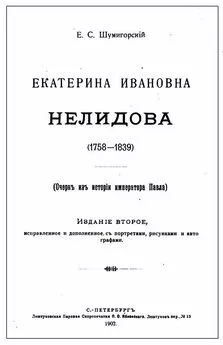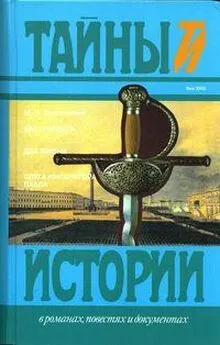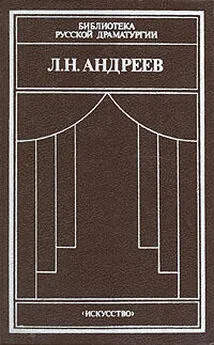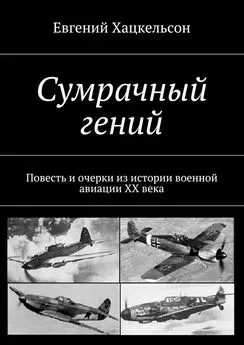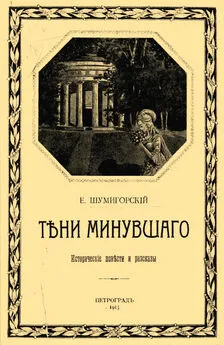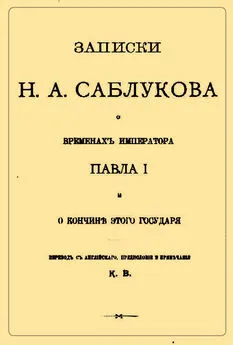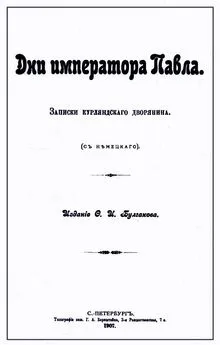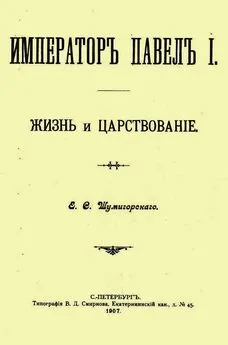Евгений Шумигорский - Екатерина Ивановна Нелидова (1758–1839). Очерк из истории императора Павла I
- Название:Екатерина Ивановна Нелидова (1758–1839). Очерк из истории императора Павла I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лештуковская Паровая Скоропечатня П. О. Яблонского
- Год:1902
- Город:С.-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шумигорский - Екатерина Ивановна Нелидова (1758–1839). Очерк из истории императора Павла I краткое содержание
В течение двадцати лет, в самое тяжелое время его жизни, Павла Петровича всячески поддерживал преданный и бескорыстный друг, фрейлина его жены, императрицы Марии Федоровны, — Екатерина Ивановна Нелидова.
Настоящая книга пытается воссоздать ее образ на основе выпавшей ей исторической роли.
Издание 1902 года, приведено к современной орфографии.
Екатерина Ивановна Нелидова (1758–1839). Очерк из истории императора Павла I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В конце концов, нельзя не признать, что, по условным привычкам и отчасти по складу своего миросозерцания, смольнянки были плодом чисто-аристократического воспитания: занятия домашним хозяйством, предположенные программой обучения, являлись простой декорацией, а введенные г-жей Делафон для ста нищих женского пола ежегодные обеды, которые устраивались 20 апреля, накануне дня рождения императрицы, и за которыми должны были прислуживать сами воспитанницы «в знак человеколюбия к ближнему и благодеяния к бедным», также были, по своей исключительности, лишь красивым сентиментальным спектаклем, где дети играли в добро. Не зная вовсе ни людей, ни жизни, невинные и простодушные девушки выходили, однако, из института во всеоружии светского образования — для дворцов и гостиных высшего общества; оттого, усвоив себе идеальные понятия о добродетели, проникнутые сознанием своих обязанностей к Богу, и к людям, смольнянки, очутившись в водовороте действительной жизни, оказывались чересчур наивными, прилагая свои прямолинейные институтские воззрения к фактам повседневной жизни, далеко не всегда давая им надлежащее значение и оценку и почти вовсе не умея отличать добродетель от красивого порока, завернувшегося в тогу добродетели. Первая ученица первого выпуска, Алымова, спустя много лет, писала в своих записках: «вполне развитый разум и твердо коренившиеся в сердце нравственные начала способны были охранить смольнянок от дурных примеров», но та же Алымова прибавляет затем: «скрывая от нас горести житейские и доставляя нам невинные радости, нас приучили довольствоваться настоящим и не думать о будущем. Уверенная в покровительстве Божием, я не ведала о могуществе людей и навеки бы в нем сомневалась, если бы опыт не доказал мне, что упование на Бога не охраняет нас от их злобы» [10] «Русский Архив», 1871, I, 5–6.
. Одним словом, школа Смольного института не только не готовила своих питомиц для жизни, но умышленно оставляла их в неведении о ней. Оттого на воспитанниц первых выпусков Смольного института историк должен смотреть с грустью и с глубоким сочувствием: они были в большинстве случаев, агнцами искупления, положенными на алтарь русской дикости, — исторической жертвой, принесенной для развития «людскости» в русской семье и обществе, и, между тем, эти пионерки просвещения, выступая на предназначенное им поприще, были еще вполне детьми, в буквальном и переносном смысле этого слова, не понимавшими самого главного: ни смысла готовившейся им роли, ни людей, с которыми они бессознательно долиты были бороться, смягчая их и перевоспитывая. Но современники первых смольнянок смотрели на дело гораздо проще и любили выставлять на вид одни лишь смешные стороны институтского воспитания, даже преувеличивая их. «Воспитанницы первых выпусков Смольного монастыря», — говорит один из них, — «набитые ученостью (sic), вовсе не знали света и забавляли публику своими наивностями, спрашивая, например, где то дерево, на котором растет белый хлеб? По этому случаю сочинены были к портрету Бецкого вирши:
Иван Иваныч Бецкий,
Человек немецкий.
Носил мундир шведский [11] Бецкий родился в Швеции, а получил образование в Германии.
,
Воспитатель детский,
В двенадцать лет
Выпустил в свет
Шестьдесят кур
Набитых дур [12] Греч, Записки о моей жизни, 106–107.
.
В числе этих учениц первого выпуска, вышедших из Смольного в 1776 г., была и Екатерина Ивановна Нелидова.
Из предыдущего очерка институтской жизни можно себе представить, как она жила и чему научилась в институте. Индивидуальные свойства Нелидовой и ее способности, выдвинувшие ее из ряда других подруг, проявились довольно рано, когда ей не было еще и 12 лет. «Появление на горизонте девицы Нелидовой, — писала императрица Екатерина Левшиной, — феномен, который я приеду наблюдать вблизи, в момент, когда кто то всего менее будут ожидать, и это может случиться скоро, скоро!» [13] «Русский Архив», 1870, 532.
. Двенадцатилетняя девочка сделалась феноменом, благодаря необыкновенной способности своей к танцам и чрезвычайной грации и живости движений во время игры на сцене. Нелидова была некрасива, но умные глаза, выразительность лица и подвижной, веселый характер заставляли забывать этот ее недостаток; очевидно, еще в институте, Нелидова женским чутьем поняла, чем она может выделиться из ряда своих подруг. «Весьма умная, Нелидова была отвратительно нехороша собою» [14] «Русский Архив». 1871. I, 41.
— сообщает о ней ее соученица, Алымова, а, между тем, эта «отвратительно-нехорошая» на вид девушка своим пением, грацией и танцами возбуждала всеобщий восторг в посетителях смольных спектаклей и сумела заинтересовать в свою пользу даже императрицу. После представления оперы «La servante-maitresse», где Нелидова исполняла роль Сербины, современный поэт приветствовал ее следующими стихами:
Как ты, Нелидова, Сербину представляла,
Ты маску Талии самой в лице являла
И, соглашая глас с движеньями лица,
Приятность с действием и с чувствиями взоры,
Пандольфу делая то ласки, то укоры,
Пленила пением и мысли, и сердца.
Игра твоя жива, естественна, пристойна,
Ты к зрителям в сердца и к славе путь нашла.
Нелестной славы ты, Нелидова, достойна
Иль паче всякую хвалу ты превзошла [15] Хроника Смольного монастыря, Нины Р-вой. 25.
.
Императрица подарила «феномену» бриллиантовый перстень, а в 1783 г. приказала Левицкому написать с Нелидовой портрет, где она изображена была танцующей менуэт [16] Лихачева: Материалы, I, 204, 202.
. Сценическому своему таланту Екатерина Ивановна Нелидова обязана была, вероятно, и тем, что при выпуске из Смольного, она получила, будучи восьмой по счету, шифр и золотую медаль второй величины, а на акте произнесла благодарственную речь от имени выпускных на немецком языке. Вслед затем определилась и дальнейшая будущность Нелидовой: она назначена была фрейлиной ко двору супруги наследника престола Павла Петровича, великой княгини Наталии Алексеевны, вместе с подругами своими по выпуску: Левшиной (в замужестве кн. Черкасской), Борщовой (в 1-м браке — Мусиной-Пушкиной и во втором — Ховен), Алымовой (в 1-м браке — Ржевской, а во втором — Маскле) и Молчановой (в замужестве — Олсуфьевой) [17] Лихачева: Материалы, I, 200–204.
. Оставляя место своего воспитания, Нелидова навсегда, подобно прочим смольнянкам, сохранила к нему и к своей «maman», Делафон, самую теплую привязанность, соединенную с воспоминанием о самых лучших детских годах жизни, вдали от забот и горестей света [18] «Прелестные воспоминания! Счастливые времена! Приют невинности и мира! Вы были для меня источником самых чистых наслаждений. Благоговею пред вами!» — так восклицает в своих «Записках» Алымова. Таковы были чувства и Нелидовой, как это видно из позднейших ее писем и действий. Это лишний раз доказывает, как тяжела была действительная жизнь для юных идеалисток.
, в котором Нелидовой, одной из первых, суждено было играть тяжелую роль, отказавшись от личных радостей и личного счастья… Императрица, конечно, никак не воображала, что одной из созданных ею смольнянок выпадет на долю исполнять свою миссию — смягчать «жестокие» и «неистовые» нравы, прежде всего, по отношению к собственному ее сыну, великому князю Павлу.
Интервал:
Закладка: