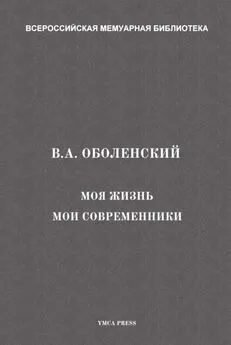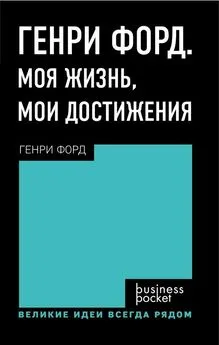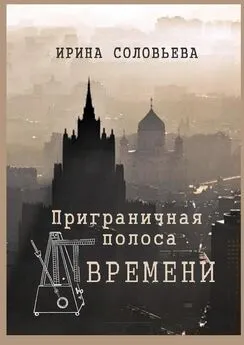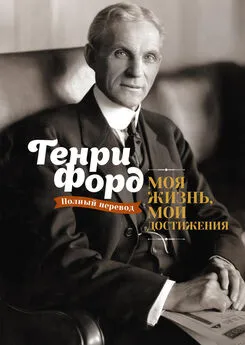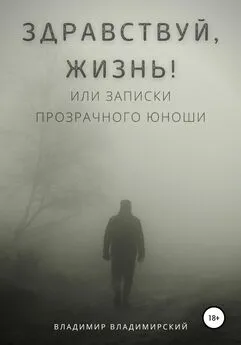Владимир Оболенский - Моя жизнь. Мои современники
- Название:Моя жизнь. Мои современники
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:YMCA-PRESS
- Год:1988
- Город:Париж
- ISBN:2-85065-127-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Оболенский - Моя жизнь. Мои современники краткое содержание
Моя жизнь. Мои современники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В. С. Налбандов был несомненно самым умным, дельным и культурным из министров правительства Сулькевича, а потому, хотя занимал пост министра народного просвещения, сразу сделался руководителем его внутренней политики. Я бы не назвал ее прямо реакционной.
Начали с восстановления всех законов Временного правительства, кроме землеустроительных (земельные комитеты были упразднены). Правда, введена была предварительная цензура (даже две, т. к. немцы имели своего военного цензора), но, если не считать мелких глупостей вроде вычеркивания отдельных слов и выражений, цензура эта мало стесняла свободу мысли, и газеты, до социал-демократических включительно, не испытывали особого гнета. Потом, во времена деникинского и врангелевского управления Крымом, печать была стеснена гораздо больше. Ни к каким особым репрессиям и к террору правительство не прибегало.
Но в области земского и городского самоуправлений сейчас же началась ломка. Демократические самоуправления со своим социалистическим большинством были предметом ненависти Налбандова, старого цензового гласного и лидера местных аграриев. Поэтому одним из первых актов краевого правительства был роспуск земских собраний и городских Дум. Были восстановлены старые цензовые Думы в дореволюционном составе, а для земских собраний был выработан новый избирательный закон с куриальной системой выборов.
Получив указ об упразднении губернского земского собрания, я послал правительству бумагу курьезного содержания, составляя которую чувствовал себя в роли запорожца на картине Репина, строчащего грамоту турецкому султану. В этой бумаге управа доводила до сведения правительства, что даже если считать его законной властью в Крыму, то все же оно не вправе распускать и реформировать ему не подвластное губернское земство. Губернское земство, распространяющее свою компетенцию на территории Крыма и части Украины, может быть распущено или упразднено лишь на основании договора между двумя государствами — Украиной и Крымом. Поэтому управа отказывается исполнить незаконное распоряжение краевого правительства.
«Турецкий султан» не ответил на эту грамоту «запорожцев», и управа продолжала беспрепятственно созывать губернские земские собрания и совещания крымских гласных, которые через полгода произвели «революцию» и свергли правительство генерала Сулькевича.
Уездные земства и городские Думы не могли занять такой «надгосударственной» позиции и сдались без сопротивления.
Правительство призвало в Думы старых цензовых гласных и назначило новые выборы в земства по выработанному Налбандовым закону. И началась невероятная неразбериха. В разных городах цензовые «мертвецы» различно отнеслись к своему воскрешению: в некоторых городах они зажили прежней жизнью, в других же, в том числе — в Симферополе, мертвецы прибыли на заседание Думы в очень небольшом числе и, заявив, что не считают себя представителями населения, разошлись по домам.
В таких городах, оказавшихся без Дум, вышедшие в отставку управы оставляли для управления делами из своего состава так сказать «блюстителей» городского хозяйства до лучших времен.
В Симферополе таким «блюстителем» оставили Василия Александровича Иванова. Не могу не помянуть добрым словом этого выдающегося муниципального деятеля.
В. А. Иванов около двадцати лет бессменно состоял то членом городской управы, то городским головой, Всегда спокойный и уравновешенный, этот удивительно красивый человек с тонкими чертами лица и черной окладистой бородой, напоминавший апостола Павла с византийской иконы, деликатно-холодный в обращении с людьми, замкнутый и одинокий, имел в жизни одну сильную привязанность: муниципальное дело. Он изучил это дело основательно и любил свой Симферополь, благоустройству которого отдал большую половину жизни, какой-то особой нежной любовью.
В. А. Иванов и симферопольское городское управление стали синонимами в глазах местных жителей.
Я помню В. А. Иванова на его посту еще в период революции 1905 года, помню, как после происшедшего в городе еврейского погрома, когда городская управа и гласные попрятались по домам, В.А. дни и ночи проводил в управе, работая не покладая рук, помогая добровольцам из местных жителей организовывать противопогромную оборону, собирать о погроме свидетельские показания и пр.
Политиком он не был и занимался политикой только тогда, когда она сама вторгалась в излюбленную им область самоуправления.
Но по какому бы закону ни проходили выборы, каково бы ни было большинство Лумы, его непременно выбирали в управу.
Мне вспоминается мое путешествие с ним в Ростов в период управления Крымом правительством Добровольческой армии. Туда мы ехали по Азовскому морю и останавливались в целом ряде городов — Бердянске, Мариуполе, Таганроге. Во всех этих городах В.А. ходил осматривать рынки и другие городские учреждения, знакомясь с постановкой дела, и как ребенок радовался тому, что в Симферополе все гораздо лучше. Эта поездка была для него роковой. Возвращались мы в теплушке, холодной и нетопленой, резкий осенний ветер свистел в щели. В.А. простудился и вскоре умер от воспаления легких.
Я уверен, что, не умри он в 1919 году, он не был бы среди эмигрантов, а сумел бы и под большевиками сохранить связь с делом всей своей жизни и продолжал бы в каком-либо качестве заведовать хозяйством Симферополя, если бы его случайно не расстреляли.
Так городские управы получились двоякого характера: частью это были остатки «демократических» управ, частью — вновь избранные «цензовые». То же получилось и с уездными земствами.
Вспоминая об этой земско-городской чехарде, которую устраивала почти каждая сменявшая друг друга в Крыму власть, диву даешься — зачем это было нужно.
Я не стану отрицать, что на первых порах демократические самоуправления не сумели взяться за работу. Заседания земских собраний и городских Дум превращались в партийные турниры, а бюджеты вздувались чрезмерно. Это была дань неопытности и революционности новых деятелей самоуправлений. Но я был свидетелем того, как «облетали цветы» партийных выступлений, как ослабевало влияние политических партий, как гласные, случайно надевшие на себя партийные ярлыки, обретали собственную индивидуальность, собственные мнения и собственную волю, как новые земские деятели усваивали практические навыки, опытность и осторожность в работе. И если дело продолжало разрушаться, то не по их вине, а потому, что разрушалась вся хозяйственная жизнь страны.
В таких условиях постоянные смены руководителей земского и городского дела, безо всякой нужды подогревая злобу и раздражение, вносили еще большую путаницу и разложение в гибнущее от общих условий дело.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: