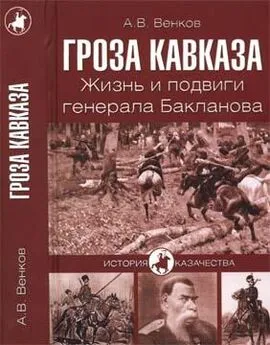Андрей Кручинин - Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память
- Название:Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-063753-9, 978-5-271-26057-5, 978-5-4215-0191-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кручинин - Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память краткое содержание
Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наряду с восстановлением промышленности, транспорта и связанным с ними «рабочим вопросом» не меньшее, а согласно распространенному мнению – и большее значение имел вопрос аграрный. «В военном деле белые офицеры были на высоте, а в политике, судя по всему, нет, – размышляет в наши дни внук Александра Васильевича, А.Р.Колчак. – Крестьяне подходили к моему деду и говорили: “А землю-то нам отдашь?” Он им отвечал, что это не в его власти, это он не может решить, это не его дело… А вопрос земли в России был больным вопросом столетий. Кому земля?… А вот они не решились, не смогли, не сумели, не сообразили, что надо было им обещать и тогда держать слово. Потому что большевики-то им обещали землю и мир, а потом случилось то, что вы знаете. Обещать-то легко. Ленин был политиком, он знал, чтó надо говорить людям». Подобная точка зрения – о какой-то принципиальной несостоятельности аграрной политики Колчака и о полном соответствии большевицкой программы народным чаяниям – вообще бытует довольно широко, а фактически лишенные аргументации утверждения создают своей категоричностью иллюзию достоверности. При этом позиции, с которых Российское Правительство подходило к решению вопроса о земле, в большинстве случаев не только не анализируются, но даже и не рассматриваются.
А между тем следует прежде всего обратить внимание, что было бы сильным преувеличением говорить о непосредственной связи между успехами или неудачами «сибирских войск» и аграрной политикой Российского Правительства. На территориях, непосредственно управляемых адмиралом, «земельного голода» практически не было, как не было и проблемы помещичьего землевладения, которое провоцировало бы захватные устремления крестьян. Современный историк, утверждая: «… Аграрное реформаторство белого Омска не имело в деревне никакой точки приложения, поскольку не соответствовало ни социальному сознанию реформируемых в текущей ситуации, ни территории, находившейся под контролем Колчака», – подкрепляет это свидетельством, согласно которому «главными районами восстания (красной партизанщины. – А.К.) являлись поселения столыпинских аграрников», – однако недостаточно акцентирует внимание на приоритете «сознания» и даже «психологии» перед экономикой. «Столыпинские новоселы» должны были представлять собою тип инициативного, самостоятельного, хозяйственного и готового к риску крестьянина, вполне импонировавший «колчаковскому государству»; однако отсутствие достаточной укорененности в новой почве делало их морально и психологически восприимчивыми к идее мятежа, хотя ни землей, ни правами они отнюдь не были обделены, особенно в сравнении с крестьянством центральных губерний.
Отметим также, что «Декларация Российского Правительства» по аграрному вопросу, датированная 8 апреля 1919 года, была приурочена к дням наступления, когда войска Верховного Правителя приближались «к тем коренным русским губерниям, где земля служит предметом раздоров, где никто не уверен в своем праве на землю и в возможности пожать плоды своего труда». Именно крестьянину (и землевладельцу, что не менее важно!) освобождаемых губерний, в первую очередь Поволжья, и были адресованы колчаковские декларации и законы.
Российское Правительство находилось в довольно затруднительном положении. «Черный передел» земли в 1917–1918 годах был, разумеется, актом противоправным, и санкционировать его безоглядно – значило в каком-то смысле подорвать правовой фундамент собственной власти. С другой стороны, полная реставрация существовавших ранее аграрных отношений в каждом конкретном регионе была бы просто нереальной, не говоря уже о резко отрицательных настроениях значительной части крестьянства, которые неизбежно создавались бы в этом случае. А потому, декларируя сбалансированность в своей политике «начал законных и справедливых», адмирал Колчак и его кабинет просто вынуждены были апеллировать к Национальному Собранию как грядущему верховному арбитру.
Но и полностью откладывать решение земельных вопросов, да еще весною, явно не приходилось; поэтому было объявлено, что «все, в чьем пользовании земля сейчас находится, все, кто ее засеял и обработал, хотя бы не был ни собственником, ни арендатором, имеют право собрать урожай». Более того, согласно утвержденным того же 8 апреля «Правилам о порядке производства и сбора посевов в 1919 году на землях, не принадлежащих посевщикам», признавалось право на пользование захваченной землею и в ближайшем будущем:
«Каждый, кто пожелает в текущем году произвести своими трудами или средствами яровой или озимый посев или вспашку земли под яровой посев 1920 года на землях, не состоящих в законном обладании ни его лично, ни общества, к которому он принадлежит, но находящихся ныне в фактическом его или общества пользовании, должен заявить об этом не позднее 15 мая 1919 года нового стиля… сельскому старосте, с указанием количества земли, которое он желал бы засеять».
Колчак давал надежду и на то, что в перспективе самовольные захваты будут узаконены, – Декларация обещала: «Правительство примет меры для обеспечения безземельных и малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись в первую очередь частновладельческой и казенной землей, уже перешедшей в фактическое обладание крестьян». Наряду с этим брались под защиту те, кто лишался земли, обработанной своими силами («хуторяне, отрубники, укрепленцы»), – их права восстанавливались, – а новые захваты и новый передел каких бы то ни было земель решительно пресекались под угрозой предания захватчиков суду.
Очевидно, что пойти дальше по пути уступок власть, претендующая на строительство государства на правовых началах, просто не могла, и напрасно Гинс критикует Декларацию 8 апреля как «вылизанную» и «осторожную». Гинсу же, по-видимому, принадлежит и главная заслуга в «обнаружении» противника земельных реформ в лице генерала Лебедева. Мемуарист утверждает, что на последнем обсуждении Декларации Лебедев неожиданно потребовал отложить окончательное решение, поскольку «против большевиков сражается много офицеров-помещиков, которые внимательно следят за всем, что относится к земельному вопросу, и всякое неосторожное слово, направленное против помещичьего землевладения, может повлиять разлагающим образом на настроение офицерства», – а после общего решения об утверждении Декларации генерал «подал письменный протест и покинул заседание, отказавшись впредь посещать Совет министров». Трансформируясь и расширяясь, слухи начинали рисовать и вовсе драматическую картину – «рассказывали о том, как при обсуждении в Совмине ответственного земельного закона он (Лебедев. – А.К.) будто бы ударил кулаком по столу и сказал, что этому закону не бывать. Он его не допустит!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: