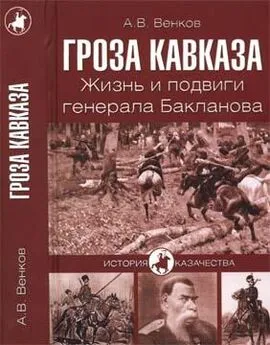Андрей Кручинин - Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память
- Название:Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-063753-9, 978-5-271-26057-5, 978-5-4215-0191-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кручинин - Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память краткое содержание
Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Слухи слухами, но свидетельство Гинса – это свидетельство участника событий, хотя и довольно темпераментного, а может быть, и небеспристрастного, и с ним нельзя не считаться. Однако обратим внимание на еще один источник – дневник Вологодского, который в записи от 9 мая 1919 года упоминает о «проекте обращения к гражданам России от имени Верховного Правителя». Авторами проекта премьер-министр называет профессора Тельберга, Сукина и генерала Лебедева, а в самом документе, по свидетельству Вологодского, звучала «непреклонная воля Верх[овного] Правителя о созыве Учред[ительного] собрания, о всеобщ[ем] избирательном праве и об укреплении за земледельцами захваченных ими земель и о новом наделении землями всех желающих заняться обработкой земли». Сложно сказать, мог ли Лебедев столь кардинально поменять свои взгляды на аграрную реформу всего за месяц, но если и так, это подтверждает более позднюю характеристику его как человека, отличавшегося «способностью восприятия контр-мнений и углубленной сосредоточенностью», и говорит скорее в пользу Дмитрия Антоновича. Впрочем, согласно запискам Сукина, «Адмирал переставал слушать советы Лебедева, как только они касались государственных дел, и всегда уклонялся от обсуждения с ним таких предметов».
Но вернемся к аграрной проблеме. Долгое время царила, да и сейчас еще не вышла из употребления, точка зрения, согласно которой земельная политика большевиков или хотя бы их декларации «выражали волю и чаяния крестьянства» и обеспечивали переход земледельческих масс на сторону Советской власти. Обратим, однако, внимание на пресловутый «Декрет о земле» от 26 октября 1917 года, чтобы немедленно увидеть одно из основных, хотя и замалчиваемых, его положений: «окончательное решение» «великих земельных преобразований»… откладывается этим документом до Учредительного Собрания, то есть в нем принимается та же линия поведения, которая для Колчака или Деникина единогласно считается принципиально порочной, ошибочной и компрометирующей любые их начинания!
Можно возразить, что осенью 1917 года открытие Учредительного Собрания ожидалось если не со дня на день, то с недели на неделю, в 1919-м же его созыв рисовался лишь в достаточно отдаленной перспективе. Но неоспоримо, что после пресечения большевиками и их единомышленниками работ «Учредилки», то есть уже с 6 января 1918 года, «Декрет о земле» превратился в юридическую фикцию. А как обстояло дело с его содержанием?
«Впредь до Учредительного Собрания» все помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли передавались… вовсе не в собственность и даже не в пользование непосредственно земледельцев, а всего лишь «в распоряжение волостных земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских Депутатов». Руководящим документом для земельной реформы становился наказ «О земле», начинавшийся с уже набившего оскомину постулата: «Вопрос о земле может быть разрешен только всенародным Учредительным Собранием», – и провозглашавший первым пунктом отмену «навсегда» частной собственности на землю: «вся земля», в том числе и крестьянская, «отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней». После отчуждения же землю должны были распределять «местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями». Нет нужды подробно объяснять, насколько далеко все это было от подлинных чаяний русского крестьянина, мечтавшего о своей земле, закрепленной за ним «бумагой с печатью», а вовсе не о возможности трудиться на «всенародном» наделе, выделенном ему милостью любого, сколь угодно «демократического» учреждения. Однако принятая 18 января 1918 года (уже после разгона «Учредилки») 3-м Всероссийским съездом Советов «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» вновь провозгласила отмену частной собственности, «социализацию земли» и передачу «земельного фонда» трудящимся «на началах уравнительного землепользования», что также вряд ли могло обрадовать настоящих, а не выдуманных догматиками, трудящихся.
Или, может быть, «агитационным» положениям «Декрета о земле» и «Декларации» противоречила аграрная практика Советской власти? – Но можно ли всерьез говорить, что «интересам крестьянства» соответствовало целенаправленное разжигание «гражданской войны в деревне» (как требовал председатель ВЦИК Я.М.Свердлов в мае 1918 года)? Или неоднократные, хотя и не повсеместные, попытки загонять крестьян в «коммуны» и учреждать «принудительную общественную обработку земли»? Или отправки в деревню «продовольственных отрядов», численность которых в 1918-м (за неполный год) превысила семьдесят тысяч человек – несколько армейских корпусов по масштабам Гражданской войны? Или введение «продовольственной разверстки» (январь 1919 года) с установлением в качестве «предельно допустимых норм потребления» – двенадцати пудов зерна и одного пуда крупы на человека в год, что было меньше физиологических норм на шесть пудов?
Удивительны ли после этого апатия или открытая неприязнь русского крестьянина к «рабоче-крестьянской» власти? Удивительно ли, что летом 1919 года офицер армии Юденича отмечал унылый сельский пейзаж под Петроградом – «земля не обрабатывалась», а И.А.Бунин весною того же года слышал от крестьянина из-под Одессы, «что хлебá хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут!» («это “придут, сволочь, и заберут” он повторил раз двадцать»)? Удивительно ли, что мобилизации, объявленные Советской властью весной 1919 года в связи с наступлением войск Верховного Правителя, дали более 45 % уклонившихся от общего числа подлежавших призыву крестьян? Удивительны ли массовые крестьянские восстания той же весною в Поволжьи, в которых участвовало до 180 тысяч человек и которые подавлявший их М.В.Фрунзе связывал с упомянутым «наступлением Колчака»? Но поистине удивительно, что, несмотря на эти и множество подобных им фактов, аграрная политика Советской власти вновь и вновь именуется «отвечающей интересам крестьянства», а Российского Правительства – им «не отвечающей»…
Так обстояли дела с крестьянином тех губерний, где ощущался «земельный голод» и стояла проблема помещичьего землевладения. А что можно сказать относительно сибиряка, которого данные проблемы не затрагивали?
Как рассказывает Сукин, и этот крестьянин не был обойден вниманием «колчаковского» министерства земледелия: оно вело целенаправленную работу по «снабжению населения Сибири земледельческими орудиями, которые в этой части России применяются всеми крестьянами». «Правительству удалось привезти из Америки и распределить по стране около 10000 машин», «пользуясь кооперативами как распределительным аппаратом», и вообще «за время деятельности Омского Правительства посевная площадь в Сибири значительно увеличилась и повысилась интенсивность обработки». Позволительно предположить, что сведения управляющего министерством иностранных дел о деятельности соседнего ведомства не отличались абсолютной точностью, но определенную тенденцию развития сельского хозяйства он вполне мог себе представлять.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: