Начало гражданской войны.
- Название:Начало гражданской войны.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство
- Год:1926
- Город:Москва, Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Начало гражданской войны. краткое содержание
Начало гражданской войны. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
[3] Ниже мы увидим образцы этой доблести.. И сила должна была сломить доблесть». Как только война (против Советов) перестала быть национальной, — говорит Краснов, — она стала классовой и, как таковая, «не могла иметь успеха в беднейшем классе».
Такой же классовый, буржуазный состав белогвардейских армий мы видим и в Сибири. «Первые два месяца после выступления чехов, — говорит Гинс, — дрались только офицеры и те, кто добровольно присоединялся к восстанию. Народная армия — «интеллигентская по составу».
Еще резче и ярче определяет классовый характер белогвардейской эмиграции и белогвардейских армий барон Будберг (по убеждениям ярый монархист): «Что представляет из себя центр борьбы — Харбин? — пишет он в своем дневнике. — Разоренные эмигранты, вышибленные из своей колеи и все потерявшие бюрократы, горящая мщением молодежь, напуганные национализацией заводчики и фабриканты, равнодушные ко всему, кроме наживы, спекулянты, атаманские орды распущенной молодежи, трясущийся обыватель, эсеровские и большевистские рабочие… Сейчас головы высоко подняты у тех, кто в слагающейся обстановке видит только возможность сесть на старые места, закрепить все старые гайки, сторицею расплатиться с теми, кто принес все пережитое за последний год, и повернуть жизнь в старое русло». «Если то, что зародилось в Харбине и сгнило в разных отрядах, — говорит тот же Будберг, — полезет на русскую территорию, то население скоро пожалеет об ушедших большевиках, конечно, черное население, которое большевики почти не трогают, но которое больше всех затрещит от наших спасителей». Такую же характеристику дает он и сибирскому правительству: «Сибирское правительство признано только местными цензовиками, еле держится и представляет из себя такую же смешную и нелепую фигуру, что и гродековская комбинация».
Итак, белогвардейские генералы прекрасно понимали чисто классовый, буржуазно-помещичий характер подготовляемого ими движения. Но, с другой стороны, они понимали, что созданная на такой узкой буржуазно-помещичье-интеллигентской почве армия обречена на бессилие, а стало быть, и на поражение. Белогвардейские генералы — одни, как Краснов, более, другие, как Деникин, менее — понимали, что армии надо придать «народный» характер, чтобы привлечь к ней доверие широких масс и опереться на их поддержку. В своих воспоминаниях Краснов все время твердит о том, что он стремился создать такую всенародную армию. Но невозможно было скрыть ярко классовый характер создаваемых белогвардейцами правительств. На Кубани, например, «право выбора в новый орган управления предоставлялось исключительно казачьему, горскому и незначительному численно коренному иногороднему населению, т.-е. почти половина области лишена была избирательных прав». Но, кроме того, старые царские генералы, воспитанные на порядках самодержавия, мало считались даже с этим родственным им по интересам цензовым представительством. На Дону, например, права атамана были установлены чуть не равными царским правам: от него зависело утверждение законов, назначение высших должностных лиц, руководство внешними сношениями, армией и флотом; ему принадлежало право помилования. «Этими законами, — по признанию самого Краснова, — вся власть из рук коллектива, каковым являлся большой или малый Круг, переходила в руки одного лица — атамана». Во главе горского правительства стояли в то время богатый чеченец Топа Чермаев и Коцев. «В Новочеркасске, — по признанию Деникина, — образовалась политическая кухня, в чаду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непонимания совершающихся на Дону событий. Приехали и представители Московского Центра. Организация эта образовалась осенью 1917 года в Москве из представителей кадетской партии, совета общественных организаций, торгово-промышленников и других буржуазно-либеральных и консервативных кругов». «Сами эти московские делегаты стремились принести пользу нашей [4] Так называемой Добровольческой.
армии, — пишет Деникин, — но за ними не было никого». В Сибири, по словам Гинса, «совет министров не считался с декларацией сибирской Думы».
Немудрено, что при таком ярко классовом характере власти и белогвардейской армии все их мечты о привлечении к себе симпатий населения оставались только мечтами. Вожди белогвардейщины сами не допускали возможности такого единения. Вот что пишет, например, Будберг в своем дневнике:
«Видел телеграмму Флуга из Западной Сибири, сообщающую, что положение там прочное, и что идет полное объединение буржуазии и народа. Последнее выражение мне очень не нравится и заставляет сомневаться в правдивости всего остального. Никогда я не поверю в искренность такого объединения».
Отношение крестьянства и рабочих к Добровольческой армии оставалось резко враждебным. «Чтобы не содействовать так или иначе войскам Корнилова в борьбе с революционными армиями, все взрослое мужское население уходило из своих деревень в более отдаленные села и к станциям железных дорог»… «Дайте нам оружие, чтобы мы могли защищаться от кадет», — таков был общий крик всех приехавших сюда крестьян… Кадеты, это — воплощение всего злого, что может разрушить надежды масс на лучшую жизнь; «кадет» может помешать взять в крестьянские руки землю и разделить ее; «кадет», это — злой дух, стоящий на пути всех чаяний и упований народа, и потому с ним нужно бороться, его надо уничтожить» [5] Приводимые Деникиным слова члена ростовской управы, меньшевика Попова, о том, что он видел во время поездки на Владикавказской жел. дороге.
. Веры в победу при таких условиях не могло быть даже среди добровольцев. Среди них были два чувства [6] Ниже мы увидим проявление этого чувства.
— безумная, бешеная жажда мщения за потерянные богатства у одних и апатия у других. По словам Деникина, «добровольцы-казаки то поступали в отряды, то бросали их в самую критическую минуту. А добровольцы-офицеры просто заблудились: без ясно поставленных и понятных целей борьбы, без признанных вождей они собирались, расходились, боролись впотьмах, считая свое положение временным и нервно ловя слухи о Корнилове, о чехо-словаках, о союзной эскадре, — о всем том действительном и несбыточном, что должно было, по их убеждению, появиться, смести большевиков, спасти, страну и их».
Интервал:
Закладка:
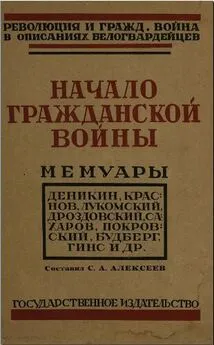
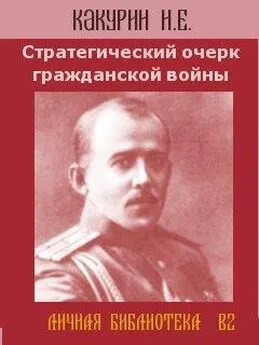

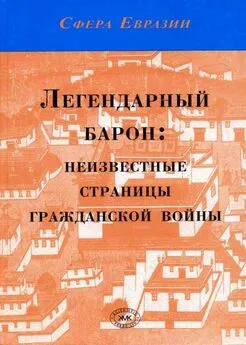

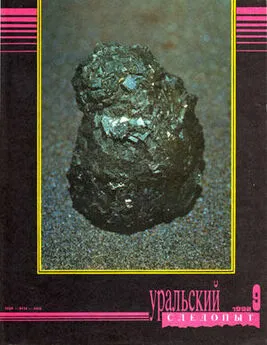
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)



