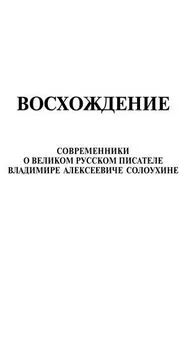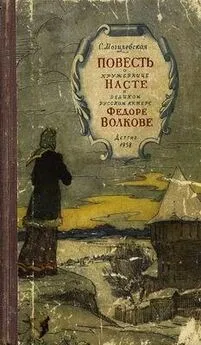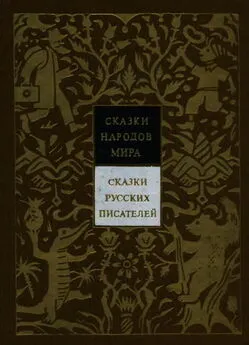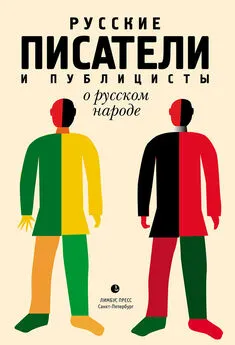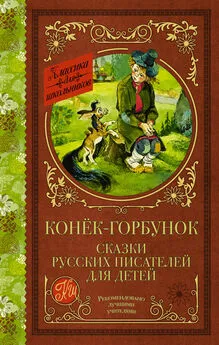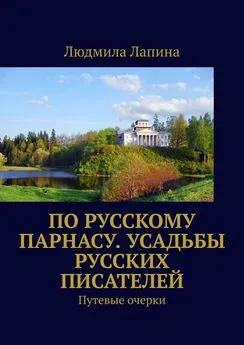Владимир Афанасьев - Восхождение. Современники о великом русском писателе Владимире Алексеевиче Солоухине
- Название:Восхождение. Современники о великом русском писателе Владимире Алексеевиче Солоухине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Афанасьев - Восхождение. Современники о великом русском писателе Владимире Алексеевиче Солоухине краткое содержание
Восхождение. Современники о великом русском писателе Владимире Алексеевиче Солоухине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы много в то время говорили с Владимиром Алексеевичем на тему крушения коммунизма и активной роли в этом процессе наших горе-либералов.
– Видишь ли, нам с либералами пока по пути, – говорил он. – Это, образно говоря, нечто вроде группового возвращения с какой-нибудь пирушки. Вышли вместе и вместе идем в одном направлении – в сторону стоянки такси. А когда доберемся до нее, то, сев в такси, определенно поедем в совершенно разных направлениях…
– Эх, если бы можно было подговорить таксистов выставить на лобовое стекло табличку «Либералов не обслуживаем», – размечтался я…
На многолюдных митингах той поры В. А. Солоухин часто говорил, что коммунистическую скверну следует изживать на корню, а не на уровне веток и кроны, и поэтому выводить на чистую воду надо прежде всего Ленина и его банду, разрушивших вековые устои самобытной России. И только во вторую очередь можно вести речь о тех, кто сменил их на руководящих постах, тем более, что Отечественная война вынудила сталинскую плеяду ослабить идеологическую узду и хоть частично, но обратиться все же к национальным историческим и духовным ценностям.
И вся доморощенная либеральная нечисть мстила за это русскому писателю сначала потоками клеветы и издевательств в открытой прессе, а потом – излюбленным приемом замалчивания вплоть до полного остракизма. Настолько, что в скорбные дни кончины и похорон великого поборника русского слова и духа суммарное эфирное время, которое отвели его памяти все наши телеканалы вместе взятые, едва ли превышало 1,5–2 минуты!
Я не без гордости вспоминаю, что мы с женой нередко оказывались своеобразным «полигоном» для апробирования новых произведений писателя, становясь первыми читателями еще неопубликованных вещей. Всякий раз, выражая свое восхищение от прочитанного, я подчеркивал, что из его творений первым среди равных считаю «Смех за левым плечом».
– И ты можешь обосновать это свое предпочтение? – спрашивал Владимир Алексеевич.
– Во-первых, – говорил я, – это самое православное Ваше произведение. Романтический образ души, устремляющейся из глубин бесконечности в рождающееся тело младенца, ориентируясь на надкупольные кресты сельского храма – это восхитительно! Но главное – это тема воспитания новоявленной души в сознании, что она никогда не оказывается вне очей Божиих и что только от нее самой зависит, будет ли плакать за правым плечом Ангел-хранитель и злорадно хихикать за левым – бес-искуситель. Вообще тема «Христос и дитя» в этой повести дана не менее блистательно, чем в «Лете Господнем» у Шмелева.
– А во-вторых?
– Во-вторых, философичность. Я имею в виду размышления о трех линиях исторического развития человечества. О пути физического совершенствования как устремленности к животному состоянию (зверь сильнее и ловчее человека), о пути интеллектуального развития и, соответственно, научно-технического прогресса как не только экологического самоубийства, но и объективной причины приумножения зла на земле, и, наконец, о третьем пути – пути к Богу, «к добру, к душевной чистоте, к душевному благородству, к духовному богатству и накоплению духовных ценностей». Но у меня еще есть и «в-третьих». Это – гимн великим патриархальным ценностям основного костяка русской нации – крестьянского сословия. Пусть описание советской деревни 20-х годов дано у Вас в образе катастрофически деградированного нового способа хозяйствования, но еще не влезла чуждая народному духу власть в исконную крестьянскую педагогику. И деревенский мальчик воспитывается на вечных ценностях веры, уважения и любви к труду, семье, земле, человеку, наконец, Родине – малой и большой. И преподаются ему эти ценности не только великой молитвенницей и труженицей Степанидой Ивановной, но и старшими братьями и сестрами, и патриархальным дедом, и сверстниками-односельчанами, и самой окружающей природой русского раздолья, всей атмосферой гармоничной деревенской жизни.
О гармоничности не только деревенской, но и всей дореволюционной народной жизни блистательно говорил Владимир Алексеевич в 1988 году в Сенлисе, небольшом парижском предместье. Именно в этом городке, в главном католическом соборе которого покоится прах Анны Ярославны, французской королевы, русское Зарубежье отмечало 1000-летие крещения Руси под почетным председательством двоюродного племянника Царя-мученика Николая II, Великого Князя Владимира Кирилловича. Узнав от меня, что в Париж мы прилетели вместе с В. А. Солоухиным, Великий Князь, лично с ним до того не знакомый, но ценивший его как писателя, передал ему официальное приглашение на торжества, апофеозом которых стал многолюдный прием-застолье в городской ратуше. В центре зала разместилось несколько больших столов, за которыми восседали августейшие представители европейских королевских домов. Рядом с русской Великокняжеской четой находились граф и графиня Парижские, возглавляющие вдовствующий французский престол. Вокруг этого монархического ядра расположились почетные гости – представители французской и европейской аристократии и, конечно же, элита русской эмиграции.
По общему мнению, из всего сказанного на этом торжестве самым ярким и содержательным было выступление Владимира Алексеевича. Переводил его на французский язык лучший специалист – князь Константин Андроников, знаменитый личный переводчик де Голля.
«Я, – говорил В. А. Солоухин, – приехал к вам из страны, в которой вот уже 70 лет вбивают людям в голову абсурдную и лживую мысль о том, будто русское общество до революции раздиралось какими-то непримиримыми сословными противоречиями. На самом же деле оно представляло собой единый живой организм успешно и гармонично развивавшейся державы, пугавшей мир темпами своего движения вперед. И говорить о некоем сословном антагонизме – такая же чушь, как утверждать, будто существует непримиримое противоборство между отдельными частями единого организма. Так же, как все человеческие органы с присущей им функцией работают вместе на пользу единого тела, так и сословия, каждое на своем месте, слаженно трудились у нас на благо единого национального дома, коим была великая Россия.
Сегодня, слава Богу, мы изживаем эти вульгарные предрассудки, которые внедрялись в умы врагами Отечества с единственной целью – разобщить народ. И я не сомневаюсь, что в этой оценке и в выражаемом мной оптимизме о будущих судьбах России, мы вовсе не антагонистичны, а очень даже гармоничны – я, одиннадцатый отпрыск большой и крепкой крестьянской семьи, и пригласивший меня на это торжество – Глава Российского Императорского Дома, Великий Князь Владимир Кириллович!»
О монархических убеждениях В. А. Солоухина складывались легенды еще в хрущевскую эпоху. И действительно, он их мужественно отстаивал, не оглядываясь на конъюнктурные соображения. Анекдотичным оказался в этом смысле случай с рассмотрением вопроса о его исключении из партии за публикацию в «Посеве» антиленинских материалов из «Кувальдяги». На партсобрании в ЦДЛ разборки дошли до прямых обвинений его в том, что он – тайный агент НТС. До этого момента упорно молчавший В. А. Солоухин вскочил и возмущенно воскликнул:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: