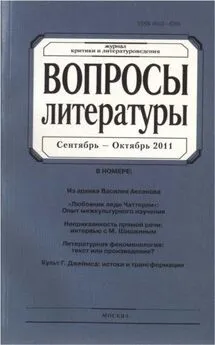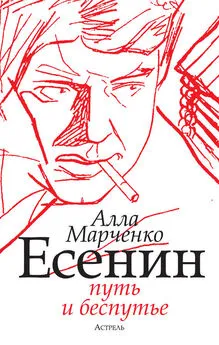Алла Марченко - Лермонтов
- Название:Лермонтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-062584-0, 978-5-271-25664-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Марченко - Лермонтов краткое содержание
«Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были ни я, ни Достоевский». Народная молва приписывает эти слова Льву Толстому. Устная легенда выразительнее, чем иные документы. С этой мыслью и движется повествование в книге «Лермонтов», которое А.Марченко строит свободно, разрушая стереотипы и устаревшие суждения, но строго придерживаясь маршрута судьбы и масштаба личности поэта.
Лермонтов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Да, Евдокия Петровна и в стихах, и в прозе настойчиво и упорно подчеркивает, что ее чувство к Лермонтову не более чем приязнь («Но заняты радушно им сердец приязненных желанья»). Вот разве что слишком уж настойчиво подчеркивает…
Стихи, из которых извлечена вышеприведенная цитата («На дорогу Михаилу Юрьевичу Лермонтову»), написаны 8 марта 1841 года. В том, что Ростопчиной совершенно точно известна дата предполагаемого отъезда (12 марта), ничего удивительного нет. По ее собственному признанию, в течение всех трех месяцев, проведенных Лермонтовым в Петербурге, с февраля по апрель 1841 года, «они постоянно встречались и утром, и вечером». При обычных дружеских отношениях естественным было вручить послание адресату, не дожидаясь дня его отъезда. Ростопчина утаила подарок, хотя это не в ее характере. Посвященные ему стихи Лермонтов получил лишь 27 марта; к этому времени Елизавета Алексеевна Арсеньева добралась-таки до Петербурга, а с ее приездом появилось обстоятельство, не способствующее ежедневным встречам поэта и поэтессы. Госпоже Арсеньевой, с ее ревнивым и властным нравом, не по душе столь долгие отлучки Мишеньки из дома. В этой ситуации послание на дорогу, где одна строфа посвящена Арсеньевой («Но есть заступница родная / С заслугою преклонных лет, / Она ему конец всех бед / У неба вымолит, рыдая»), превращало стихи в средство, которое могло бы нейтрализовать недовольство Елизаветы Алексеевны слишком частыми свиданиями внука с невесткой старого Ростопчина.
Маленькая хитрость Евдокии Петровны сработала: и после приезда «заступницы» Михаил Юрьевич проводил многие часы в обществе черноглазой Додо. Ежедневно. И утром. И вечером.
Впрочем, осторожность и необычная для «воронежской ласточки» сдержанность объяснялись и еще одним, весьма щекотливым, обстоятельством. Завязка «новой драмы» происходила, во-первых, на глазах у Софьи Карамзиной, бурно и самовластно претендующей на исключительное внимание Лермонтова, а во-вторых, развивалась параллельно с развязкой не слишком веселого романа графини с младшим братом Софи – Андреем. Даже в день отъезда Лермонтова из Петербурга, 14 апреля 1841 года, Ростопчиной и Лермонтову не удалось остаться тет-а-тет. «Мы ужинали втроем, – вспоминала Евдокия Петровна, – за маленьким столом, он и еще один друг, который погиб насильственной смертью в последнюю войну» (А.Н.Карамзин).
И все-таки Додо с чисто женской ловкостью нашла способ проститься с Лермонтовым без свидетелей. Воспользовавшись суматохой, возникшей в самый момент отъезда, «одна из последних пожала ему руку». В это краткое мгновение уединения в толпе Михаил Юрьевич успел отдать милой Додо загодя заготовленный альбом со стихотворением «Я верю, под одной звездою мы с вами были рождены», а Евдокия Петровна шепнуть, выдохнуть коротенькую, в одно дыхание, французскую фразу: «Je vous attends» («Я вас жду»).
Первое – факт, второе – всего лишь гипотеза, но если отказаться от нее, совершенно необъясним и еще один «загадочный» поступок Лермонтова, его последнее, от 10 мая 1841 года, письмо к Карамзиной, в которое поэт вмонтировал французское стихотворение «L’Attente» («Ожидание»). В русском прозаическом переводе оно звучит так: «Я жду ее в темной долине. Вдали, вижу, белеет призрак, который приближается. Но нет! Обманчива надежда! То старая ива качает свой сухой и блестящий ствол. Я наклоняюсь и долго прислушиваюсь: мне кажется, что я слышу звук легких шагов по дороге. Нет, не то! Это шелестит лист во мху, колеблемый душистым ветром ночи. Полный горькой тоски, я ложусь в густую траву и засыпаю глубоким сном. Вдруг я вздрагиваю и просыпаюсь: ее голос шептал мне на ухо, ее уста целовали мой лоб».
Текст этот справедливо вызывает недоумение комментаторов: к Софье Карамзиной («Пьеро в вечно стоптанных башмаках») он явно не имеет отношения, а для того чтобы убедить «русскую Рекамье», что он не бездельничал в дороге, у Лермонтова есть другие, куда более значительные в литературном плане стихи: «Утес», «Спор», «Сон»; все они записаны в книжке, которую Владимир Одоевский подарил ему в день отъезда из Петербурга. Но недоумение исчезает, если предположить, что стихи обращены к Ростопчиной, тем более что к ним приложен зашифрованный комментарий: «Я хотел написать еще кой-кому в Петербурге, в том числе и госпоже Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок». Карамзиной Лермонтов написал сразу же по приезде в Ставрополь, Смирновой хотел написать… Следовательно, остался еще кое-кто, неназванный… Вместо письма этому неназванному он и отправил стихи, смысл которых понятен лишь двоим. Для открытого, легального письма к Евдокии Петровне нужен был лояльный предлог. Таким предлогом мог бы стать разговор о сборнике ее стихотворений. Но Евдокия Петровна получила сигнальный экземпляр через несколько дней после отъезда Михаила Юрьевича. Зная, что Лермонтов собирался задержаться в Москве, она бросилась к Елизавете Алексеевне с просьбой – передать стихи Мишелю с оказией.
Елизавета Алексеевна, обычно точная во всем, что касалось Мишеньки, на этот раз комиссию не исполнила: то ли оказия не подвернулась, то ли не смогла побороть ревнивого чувства. Постоянно находясь в страхе, что «Мишу женят», она с подозрением относилась к «девицам на выданье», однако и потрафлять непонятным отношениям внука с замужней женщиной, матерью маленьких детей, тоже не собиралась, это было не в ее правилах. И все-таки, поборов ревность, о том, что слишком нарядная и чересчур разговорчивая жена графа Андрея Федоровича завезла собственное сочинение, в конце концов сообщила. Узнав об этом (по приезде в Пятигорск Лермонтов получил сразу три письма от бабушки), он не без раздражения пишет: «Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск». Далее следуют еще два поручения: купить и прислать полное собрание Жуковского и полного Шекспира – «по-англински».
В ряду: Шекспир, Жуковский – желание как можно скорее заполучить сборник Ростопчиной свидетельствует, что Лермонтов интересуется им отнюдь не по соображениям эстетического порядка.
Белеющий призрак… Легкие шаги… Уста, целующие (по-сестрински? по-матерински?) в лоб… Все это так точно соответствует неопределенным (когда любой зигзаг судьбы равно возможен) отношениям между Ростопчиной и Лермонтовым, а главное, облику Евдокии Петровны. Легкость, воздушность Додо Лермонтов подметил еще в посвященном ей новогоднем мадригале 1832 года: «Как над пучиною мятежной / Свободный парус челнока, / Ты беззаботна и легка». Больше того, если сопоставить стихи из подаренного при прощании альбома, где помимо осторожного объяснения причины своего сдержанно-осторожного поведения во время отпуска («Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать») со стихотворением «Утес» (оно также написано по дороге на Кавказ, после трех месяцев счастливого отпуска), видно, что и эта вещь продолжает ростопчинскую тему – тему несостоявшейся любви:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: