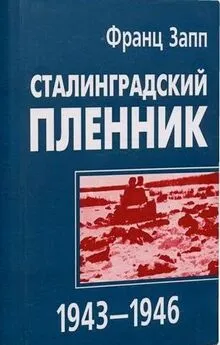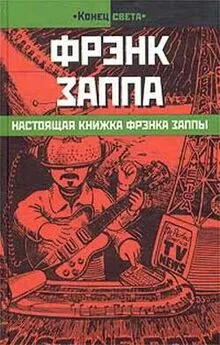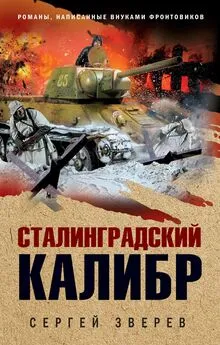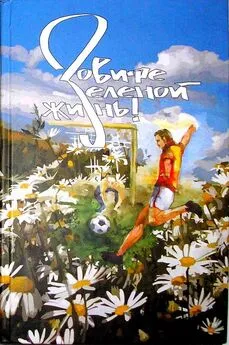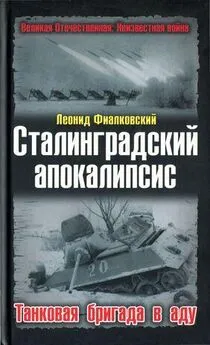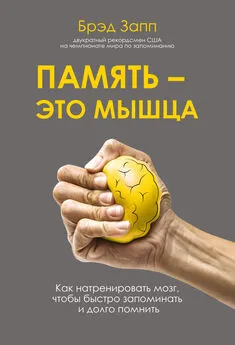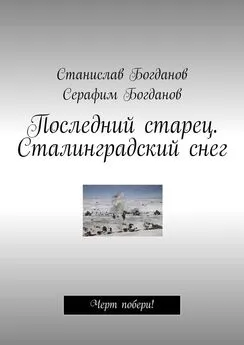Франц Запп - Сталинградский пленник 1943–1946
- Название:Сталинградский пленник 1943–1946
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Петербург — XXI век
- Год:1998
- ISBN:5-88485-057-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франц Запп - Сталинградский пленник 1943–1946 краткое содержание
Сталинградский пленник 1943–1946 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другой упрек я услышал от товарища, который прошел со мной войну и плен. Мне было сказано, что я сторонюсь других и веду себя вопреки духу коллективизма, не занимаюсь самокритикой. Слово «самокритика» мы слышали часто, она была чем-то вроде исповеди у католиков, очень удобным способом самооправдания, если возникло противоречие с общим коллективным мнением. Надо только вовремя набраться храбрости и получить отпущение грехов, чтобы потом снова замкнуться.
В третьем случае, уже в конце учебы, нас призвали поделиться своими планами на будущее. Тот же товарищ спросил меня, почему я не говорю, что дома примкну к коммунистам. Это был, конечно, каверзный вопрос, ведь я давно уже знал, что из нас хотят сделать активных коммунистов, несмотря на то, что семинары назывались просто антифашистскими курсами. Меня же просто интересовало, как в коммунистической стране представляют себе коммунизм и чем обосновывают материализм и атеизм.
Спрашивали и о моем отношении к войне. Я говорил, что всякую войну считаю величайшим из заблуждений человечества и вижу нашу первоочередную задачу в том, чтобы сделать невозможной любую войну в будущем. К своему удивлению, я услышал, что это ошибочное мнение, оно ведет к ослаблению мобилизационной готовности граждан, что войны необходимы для свержения власти капиталистов и создания «передового социалистического» общества во всем мире.
А на каверзный вопрос я ответил, что на курсах узнал много новых аргументов, которые должен всесторонне изучить, так как все знают, что я выходец из семьи ревностных католиков и от меня требуют большего усилия, чем от большинства других. Кроме того, в настоящее время я военнопленный и согласно Женевской конвенции мне нельзя делать политические заявления. После этого меня оставили в покое, кстати, и дома тоже не приставали.
То, что к людям с дипломами присматривались особо, подтвердил случай с преподавателем из Граца, это произошло в начале нашего пребывания в этом лагере, когда нам поручили не очень легкую физическую работу. Некоторые делали вид, что работают, не жалея сил, и их ставили в пример маленькому и тщедушному преподавателю, который был еще и учителем физкультуры, но очень ослаб в плену. На это учитель неосторожно заметил, что не всякий, кто пыжится, работает по-настоящему, и часто за притворных активистов приходится работать другим. Этого замечания, как он сам мне возмущенно рассказывал, было достаточно для серьезного упрека со стороны руководителя группы, а затем и перевода в другой лагерь, кажется, куда-то в Сибирь.
Руководителями в нашей группе чаще всего были австрийцы из рабочих семей. В феврале 1934 года со своими родителями из социал-демократов, а некоторые и без родителей, они вынуждены были бежать в Советский Союз. Здесь они получили среднее образование, а некоторые закончили высшую школу. Во время войны они, убежденные антифашисты, действовали как пропагандисты и агитаторы. Некоторые участвовали в гражданской войне в Испании против Франко и после ее окончания вновь бежали в Россию. О наших лекциях и семинарах будет рассказано позже.
Нам было приятно, что на кухне работало много австрийцев, что придавало еде из обычных для лагеря продуктов, так сказать, австрийский привкус. На масленицу были приготовлены настоящие масленичные пышки. Как всегда была каша, но она стала разнообразнее, готовилась не только из пшена, но и из сои. Правда, соевая каша немного отдавала керосином. В моей группе был настоящий «сталинградец», крестьянин из лесного района Австрии, он делился со мной остававшимися порциями соевой каши. Вместо селедки мы получали соленую кильку. Многие отказывались и от нее. Эти небольшие — 10–12 см — рыбешки были очень соленые и горчили от желчи, а иногда при еде на зубах хрустел песок. Я и «сталинградец» съедали по нескольку порций неочищенной кильки с головами и хвостами. Ведь она была почти единственным животным белком нашего рациона. Эта пища помогла нам восстановить силы и даже сыграла с нами вот какую шутку: когда мы прибыли в Вену и люди искали «сталинградцев», нас никто за таковых не принимал, их старались найти среди тех недавних пленных, которые отказывались есть соевую кашу и кильку и выглядели очень истощенными, как их представляли себе на родине. А мы уже приходили в норму. К завтраку часто выдавался небольшой кубик масла, как на родине в пансионе для иностранцев.
Жили мы в бревенчатых рубленых домах, отделанных внутри штукатуркой и, конечно, не без клопов. Помещения отапливались громадными кафельными печами, в которых мы сжигали большие охапки поленьев, поэтому даже суровой зимой наслаждались теплом Но клопы гнездились в каждой трещине, по ночам они не давали нам покоя, и мы вставали опухшие. Стояла настоящая русская зима. Все было заметено снегом, солнце появлялось в небе лишь к полудню и вскоре заходило. Зимой почти весь день уходил на семинарские занятия. Снег часто сыпал на протяжении целых часов при температуре 20–25° ниже нуля, и всюду лежал его пышный пуховый покров. Это затрудняло подвоз продовольствия, грузовые машины вязли на занесенных дорогах. Все сильнее ощущался недостаток продовольствия. Порции хлеба постепенно сокращались и наконец достигли только 100 г в день. Это означало, что если мы хотим получать нормальное довольствие, то должны сами привезти его на санях со станции, находящейся на расстоянии 20 км. Лошадей не было, тащить сани надо было своими силами, для этого требовался десяток крепких и выносливых парней. Мы с Вилли были в числе добровольцев. До обеда мы тащили пустые сани на станцию, а во второй половине дня везли оттуда тяжелый груз. Сорок километров пути по снегу. Мы знали, что другого выхода нет, никто не хотел умирать от голода. На станции нам погрузили 5 мешков отрубей по 80 кг, и мы тащили сани в лагерь по глубокому снегу. Было очень морозно, но тихо, и мы чувствовали себя хорошо. Сани шли легко, сухой воздух приятно бодрил. Эта поездка на лоне природы имела для нас и психологический стимул. Протащить сани десятки километров по снегу — дело нелегкое, но мы добровольно взялись за дело, важное для всех. И это ощущение испытывали не только мы, десяток добровольцев.
Однообразное питание и недостаток витаминов нередко приводили к куриной слепоте. В домах нового лагеря не было туалетов, и мы должны были бегать в уборную, а по ночам стояли сильные морозы. Уборная по санитарным соображениям была построена подальше от домов, чтобы в теплое время года оттуда в жилые и кухонные помещения не летели мухи, разносчицы эпидемий. Дальше 25 м мухи не летают, поэтому как минимум на таком расстоянии от домов должны находиться уборные, но они стояли намного дальше. Это было неудобно, особенно зимой и тем более для больных куриной слепотой, затруднявшихся найти дорогу ночью при единственном фонаре над входной дверью. Они ждали у входа, пока не появится кто-нибудь с нормальным зрением и не проводит больного под руку в оба конца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: