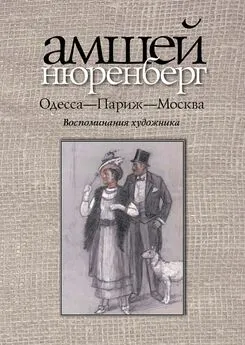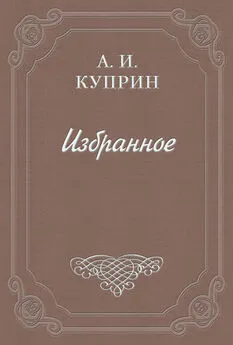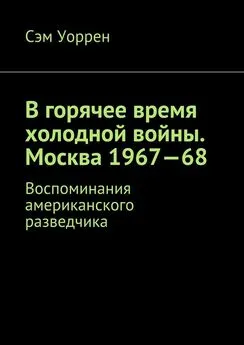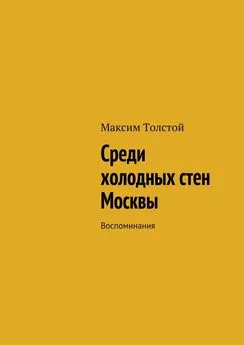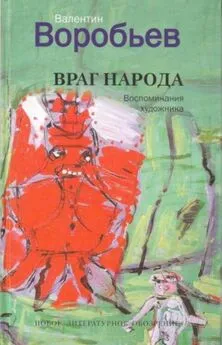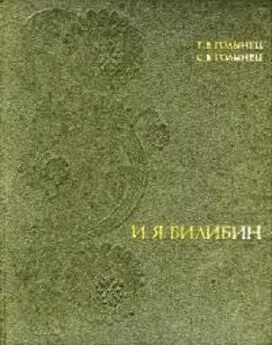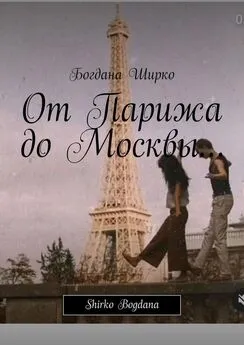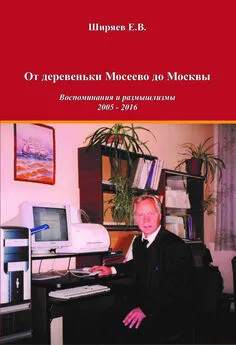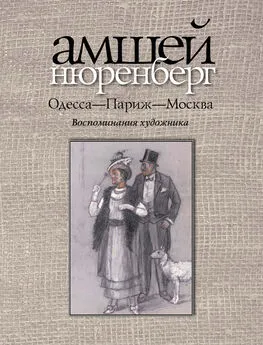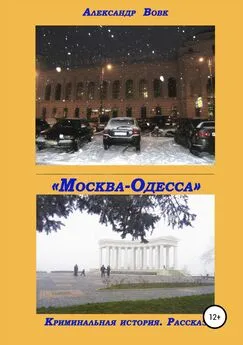Амшей Нюренберг - Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника
- Название:Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гешарим (Мосты культуры)
- Год:2018
- ISBN:978-5-93273-289-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Амшей Нюренберг - Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника краткое содержание
Книга снабжена широким иллюстративным рядом, который включает графическое и живописное наследие художника, а также семейные фотографии, публикующиеся впервые.
Одесса — Париж — Москва. Воспоминания художника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Московские зрители, привыкшие к панно и плакатам, написанным в иконописном стиле, считали их творчеством нового советского духа и с авторами этих работ не спорили.
— Такой стиль теперь, вероятно, ближе и роднее, — говорили они.
Вспоминая теперь уже покрытое голубым маревом время — такое страстное увлечение древней русской живописью кажется выдумкой неспокойных двадцатых годов. Но бывают дни, когда моя память на несколько минут приближает давно минувшее, и тогда я ярко вижу вдохновенных вхутемасовцев на фоне их удивительных панно и плакатов.
Будучи в Москве, знаменитый французский художник Анри Матисс с большим восхищением отзывался о древней русской живописи. Французского мастера поразили «глубина и мощь человеческого духа».
Обращаясь к приветствовавшим его московским художникам, он торжественно произнес: «Искусство видеть — уже творческий акт».
И продолжил:
— Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют.
Эти крылатые слова особенно актуально звучат теперь, когда кинорекламы или иллюстративные издания затопляют нас потоком своих образов.
Вожди левого фронта во ВХУТЕМАСе
Много ли наши искусствоведы задумывались над тем, что происходило во ВХУТЕМАСе, что представляли собой работы Кандинского и Малевича? В душу каждого художника вкралось сомнение, могут ли геометрические композиции заменить «Боярыню Морозову»? Может ли случайная комбинация из черных линий, красных и вишневых пятен заменить «Троицу» Рублева? Появилась мысль — долго ли можно зрителя кормить таким убогим искусством? Все мы отлично понимали, что нельзя написать портрет любимого человека плоскими, однотонными квадратиками, кружочками и треугольниками. То же было и в скульптуре. Нельзя вылепить героя-рабочего, пользуясь кубистским конструктивным экспериментом.
Но при этом задумывались ли наши искусствоведы и над тем, какой другой смысл заключен в левых опытах этих новаторов? А между тем, параллельно со станковой живописью, они создавали интересный декоративный мир.
Вспоминая это время, я должен со всей искренностью признать, что первыми преданными друзьями советской изокультуры являлись так называемые «леваки». Художники, увлекавшиеся Пикассо, Сезанном, Матиссом, Дереном и Ван Гогом. «Леваки» были убеждены, что только небывалой в истории живописи формой и краской можно передать большевистские идеи. Что живописной техникой Шишкина, Маковского и Богданова-Бельского нельзя передать революционную действительность. Разумеется, были случаи, когда новую культуру тепло встречали художники академического направления. И даже некоторые натуралисты объявляли себя друзьями советской изокультуры, но таких было немного. Это характерное явление наблюдалось тогда во всех главных художественных центрах.
Неверны статьи, появлявшиеся в нашей печати, в которых доказывалось, что творчество художников Малевича и Кандинского — «бациллы, занесенные к нам с Запада». Это искусство изобретено в стенах ВХУТЕМАСа Кандинским — коренным москвичом и Малевичем — витеблянином. Энергичная борьба этих двух изобретателей со станковой живописью тянулась недолго и больших эффектов не дала. Победили станковисты. Творчество Кандинского и Малевича сразу ушло в декоративный мир, где живет и поныне. Последователи новаторов стали покидать своих вождей. К концу 1922 года новаторы были уже генералами без армии.
За границей возникло сейчас увлечение вхутемасовскими делами 20-х годов. Иностранные искусствоведы верят, что новое в декоративном мире искусство родилось во ВХУТЕМАСе и потом уже разбрелось по Западу и там расцвело.
Несколько слов о декларациях Малевича (стараюсь сохранить его стиль и язык):
«От кубизма к супрематизму в искусстве, к новому реализму живописи как абсолютному творчеству».
«Вся бывшая и современная живопись до супрематизма — скульптура, слово, музыка — были закрепощены формой натуры и ждут своего освобождения, чтобы говорить на своем собственном языке и не зависеть от разума, смысла, логики, философии, психологии, разных законов причинности и технических изменений жизни».
Такой нелепый набор пустозвонных фраз даже у самого терпеливого читателя вызовет улыбку и жалость к ее автору. Чувствуется, что автор был одержим одной страстью — эпатировать читателя.
Особенно тяжелое впечатление производит на читателя его декларация с символическим «черным квадратом». Некоторые абзацы этой истеричной декларации даже, для усиления эффектности, написаны в мистическом стиле.
И все же во всей этой атакующей литературе чувствуется, что наступательная сила уже иссякла. И что остывший жар автора уже никого не согреет.
И сам Малевич, вероятно, понимал, что выступать перед художниками со знаменем, на котором написан мрачный черный квадрат — бессмысленно. «Черный квадрат» — яркий символ творческого тупика. Дальше — стена. Выход один — вернуться обратно. Но куда? — спрашивал его ученик, молодой вхутемасовец. В музей западного искусства? — Нельзя. Вы не разрешаете. В Третьяковку? — Она проклята как враг нового искусства!
Программа манифеста Малевича имела, в основном, в виду борьбу с живописью. Музеи были объявлены кладбищами, а картины устаревшими и ненужными. Весь этот трескучий набор слов остался выстрелом в тумане.
В мастерских в этот день, когда были расклеены афишки Малевича с истерическим призывом к учащимся выкинуть живопись в мусорный ящик как устаревший хлам, студенты-живописцы увлеченно писали натурщиц и натюрморты. И на свободе весело почитывали малевические прокламации. Они хорошо понимали, что призыв к супрематизму — это один из боевых приемов эпатажа.
Черный квадрат. Для художников он был символом грядущего тупика. Дальше идти было некуда. Всякая жизнь живописи должна была прекратиться: «Смерть всему живому!» Этот лозунг был выброшен тогда, когда в муках рождалась новая, небывалая жизнь. Когда все старые формы уступали место новым и когда молодежь испытывала страстное влечение ко всему свежему, новому.
В это время с большим жаром работали мастерские Кончаловского, Машкова, Куприна, Осмеркина, Штеренберга. Никто из работавших в этих мастерских не пошел за Малевичем.
Только небольшая группа вхутемасовцев, художников-оформителей, мечтавших о новом декоративном мире, уверовала в эстетику Малевича и пошла за ним. Эта молодежь стремилась не в музеи, а на фабрики и заводы, где родилась и выросла декоративная эстетика, где создавались вещи и предметы, наделенные новыми формами, рисунками и цветами. Появились оригинальные, в новом стиле, ткани, обои, посуда, ковры. Потом к этому стилю присоединилась полиграфия, где новый стиль сыграл большую положительную роль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: