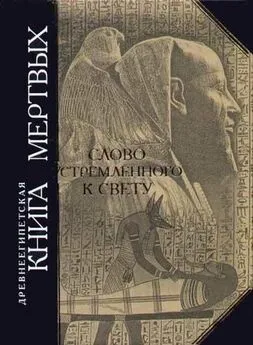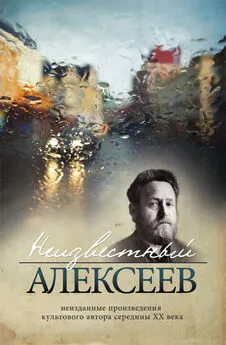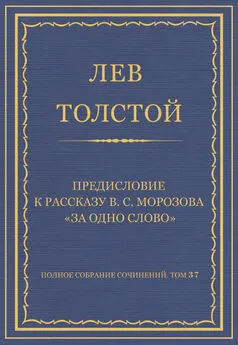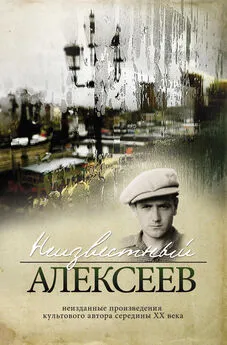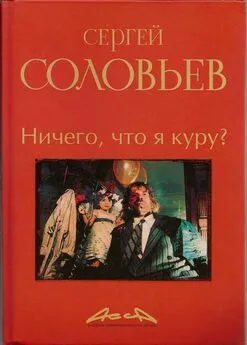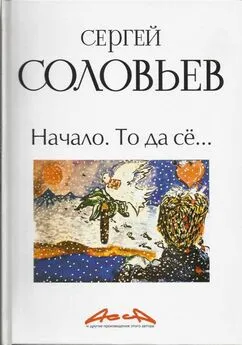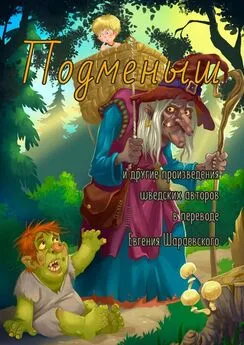Сергей Соловьёв - Асса и другие произведения этого автора. Книга 3. Слово за Слово
- Название:Асса и другие произведения этого автора. Книга 3. Слово за Слово
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:2008
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-367-00867-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Соловьёв - Асса и другие произведения этого автора. Книга 3. Слово за Слово краткое содержание
Асса и другие произведения этого автора. Книга 3. Слово за Слово - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Да, Пикассо все-таки не мастер…
Мы, ошалев, уважительно разинули рты.
— Если Пикассо не мастер, то кто тогда мастер? — слабо поинтересовался кто-то из нас.
— Леонардо, Врубель…
Спорить с Валерой мы тогда опасались, понимая, что в разных весовых категориях. Мне еще надо учиться, учиться и учиться, думал я. А уже позже, годика, скажем, через два-три, может быть, я тоже, вот так вот небрежно листая книжечку, про кого-нибудь смогу со спокойным, убежденным высокомерием сказать: «…это не мастер…»
Тот разговор как бы проехал, забылся. А через несколько лет, незадолго до того, как я поехал поступать во ВГИК, Лева Васильев, как бы дурачась, не то прогундосил, не то прочитал:
Мне дверь отворят,
Я войду туда: здрасте!
— Пикассо — не мастер!
А кто ж из вас мастер?
Мне нужен бы мастер,
я жду вас с утра здесь:
корабль мой сгорел
и обрушились снасти,
скажите!
кто может в разгуле ненастья
раскуривать трубку,
кто может на трассе
невольных несчастий
и всяческих бедствий
из камня, из краски,
из снов и обрывков ночей
на террасе —
играть на струне
напряженнейшей страсти,
кто слово за слово
отважится драться
и друг перед другом,
готовясь заправски, суча рукавами,
стоять голодранцем?
Вы знаете,
я с корабля — и на праздник.
Мой дом потерялся.
Прекрасно, прекрасно!
Поздравьте меня
и скажите мне: здрасте!
— Что такое? — поразился я. — Кто написал?
— Ты никогда не поверишь! — искренне отвечал Лева. — Но написал все это такой олух как Вознесенский…
«Олух» было сказано вполне беззлобно и даже в некоторой степени любовно, потому как к тому времени Вознесенским уже была написана вполне человеческими словами человеческая «Осень в Сигулде».
Я все-таки был бесконечно наивен и поверил, хотя долго еще не мог понять, откуда Вознесенский мог узнать про нашу эстетически-идеологическую свару и про роскошную плотниковскую реплику. Только после Левиной смерти в Левином посмертном сборнике это раннее Левино стихотворение прочитал.
А тогда главное, что составляло суть нашей жизни и суть нашего общения, заключалось в том, что мы все «чего-то хотели». Лева Додин хотел стать театральным режиссером, без сомнения очень хорошим. Я хотел быть тем же самым, но в кино. Валера Плотников хотел быть оператором, а в итоге стал очень хорошим фотографом. Все мы пытались завоевывать эту жизнь, хотели побеждать, все были честолюбивы. Споря, утверждали себя, отстаивая свое место и личное жизненное пространство.
Лева Васильев никогда ничего этого не хотел. Прежде всего, он не хотел ничего завоевывать. И это не было позой. Совершенно органичным и естественным для себя образом Лева никогда не хотел никого ни побеждать, ни утверждаться. Вообще он никогда не хотел быть никем. Ему достаточно было читать книжки по математике и листать книжки стихов. Книжек же он никогда не собирал. И вообще не собирал ничего. Никогда никем не был и не собирал ничего. Это даже не было предметом никакого ни с кем обсуждения, не было и жестом отверженного и обиженного человека: вот меня общество отвергло, выплюнуло, и я ему безразличием отплачу. Все было совершенно иначе. Именно он, Лева, довольно рано и совершенно определенно выплюнул это общество. Просто даже по причине его скверных вкусовых качеств. И никогда он не пытался откусить от него, этого общества, ни кусочка. Просто, говорю, однажды выплюнул — вместе со Сталиным, с Лениным, с коммунизмом, демократизмом, либерализмом, со всеми прогрессивными разговорами на кухнях и реакционными разговорами в ЦК КПСС. Для него все это вместе была одинаково дурацкая абракадабра, итог потерянной в самом начале «двоечки» после «хэ».
Я удачливо поступил во ВГИК и уехал в Москву. Лева искренне за меня радовался. Попервоначалу мы даже переписывались. Я тогда скучал по Ленинграду, часто туда ездил. Практически вся моя стипендия уходила на то, чтобы кормить в поезде проводников, оплачивая по дешевке свой проезд зайцем. А Лева, естественно, оставался в Ленинграде и твердо знал, что никогда ни в какую Москву и вообще никуда он не поедет. Мама еще была жива, они по-прежнему ютились в своей каморке, в коммуналке. Лева устроился на работу сначала сторожем, а потом и смотрителем залов в Военно-морском музее, помещавшемся в старой петербургской Бирже, между Ростральных колонн. Ему эта работа нравилась. В те времена население города еще не потеряло интерес к рассматриванию дырок на чьем-то простреленном кителе, музей не пустовал, но не это было предметом Левиных забот. Когда он по ночам дежурил в музее, во всей Бирже вообще, кроме него, никого не было. Лева любил гулять в одиночку по пустым ночным военно-морским залам. Уже не говорю о том, что более идеального места для листания книжек стихов, их писания и изучения трудов по математике представить вообще невозможно было.
Я еще был студентом — завоевателем столицы, а его главная карьера уже бесповоротно состоялась. Это я тоже узнал сильно позже, рассматривая даты под стихами его посмертной книжки. А в те же годы вокруг него, рядом с ним ходили где-то по Васильевскому и Бобышев, и Найман, и Бродский.
— Давай вечером пойдем в пельменную на Полтавской, — пригласил однажды меня Лева, — там один рыжий еврей гениально воет вполне замечательные стихи…
На Полтавской улице была нормальная заплеванная пельменная, с всегда нечистым кафельным полом, со столиками, покрытыми голубым пластиком, изрезанным перочинными ножами. Но этой пельменной, первой в Ленинграде, было разрешено с семи вечера именоваться «Кафе поэтов». Повара расходились, дежурные в грязных белых халатах подавали только скверную бурду под названием «кофе». Поэты читали стихи, частью просто отличные. Их слушали.
Мы пошли на Полтавскую, и там я действительно увидел огненно-рыжего «еврея Бродского», который фантастически подвывая, с невероятной, какой-то особой картавостью читал сразу покорившие меня строки:
Холмы — это наша радость.
Встретим их не успев…
Холмы — это наша гордость…
Иосиф действительно не читал, а искусно провывал свои стихи. Следующее стихотворение, которое он в тот вечер провыл, было и вовсе гениальным:
Ни страны, ни погоста
Не хочу увидать.
На Васильевский остров
Я приду умирать.
— Видишь, — одобрительно говорил Лева, — он действительно соображает.
Там же Лева познакомил меня с Мишей Смоткиным, знаменитым в ту пору питерским поэтическим тусовщиком-андеграундником. Тогда же Миша немедленно подарил мне тоненькую книжечку своих стихов, отпечатанную им самим на пишущей машинке. Написал, как у больших, на титуле книжечки дарственную надпись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: