Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]
- Название:Три дочери Льва Толстого [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2019
- ISBN:978-5-389-17398-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres] краткое содержание
Три дочери Льва Толстого [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В мирной повседневной жизни обычному человеку приходится, в большей или меньшей степени вдумываясь в это, балансировать между разными системами ценностей (есть жизнь общественная, есть личная; и т. д.), однако в военное время удержать душевное равновесие в пошатнувшемся мире становится сложнее.
Еще во время Русско-японской войны, в начале января 1904 года, девятнадцатилетняя Саша Толстая получила письмо от своего друга Сергея Сухотина [891], учившегося тогда в Морском кадетском корпусе. Он написал о постигшем его внутреннем разладе, сообщив, что «только головой рассуждает, что убийство плохо, а что его сердцем тянет на войну, что он все-таки русский». Прямолинейную Сашу Толстую это письмо неприятно поразило. В своем дневнике она записала: «Меня это огорчило и ясно показало, что из Сережи толка не будет. Как можно писать такие пошлости, вроде того, что „я все-таки русский“ или „я все-таки дворянин“. Прежде всего я человек. Напишу ему на это длинное письмо. Эх, огорчают меня мои друзья!» [892]Юная барышня была весьма далека от понимания всей сложности ситуации, национальные же и сословные чувства другого человека были однозначно отнесены ею к сфере пошлости.
Драматизм такой ситуации был внятен ее отцу. 18 сентября того же года Л. Н. Толстой писал сыну Андрею, участвовавшему в Русско-японской войне [893], ободряя его и делясь собственным опытом:
«Последние дни все думаю о тебе, милый Андрюша. Когда ты уезжал, мне как-то не верилось, что ты будешь на войне, а вот ты уже в самом пекле. Знаю опытом, как на войне все живут, бодрясь и стараясь забыться, – иначе нельзя делать страшное дело войны, но, прошу тебя, не забывай и на войне свою душу. И старайся быть добр со всеми. В этом всё. А тебе это легко, п[отому] ч[то] ты добр в душе.
Прощай пока, целую тебя и очень люблю» [894].
Логика военного времени и логика мирного в каждый конкретный исторический момент находятся в разных соотношениях: они могут быть противопоставлены, согласованны или соположены. И соотношения эти весьма подвижны: в какой-то ситуации ценности войны (необходимость защиты государственных и национальных интересов) становятся преобладающими, авторитетными и убедительными и на первый план выходят представления о высокой значимости патриотизма и героизма, а в какой-то момент ценности мира (прежде всего забота о другом человеке без учета различий в вероисповедании, национальной и государственной принадлежности) начинают более отчетливо проступать сквозь все доводы войны. И тогда авторитетное перестает быть убедительным.
В произведениях Л. Н. Толстого и в военных воспоминаниях его детей существуют любопытные совпадения. В книге «Война мир» есть, как помним, трогательный эпизод о взятом в плен юном французском барабанщике Vincent Bosse, о котором позаботились русские казаки, мужики и солдаты. Одни сразу переименовали фамилию мальчика в Весеннего, а другие – в Висеню: «В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике». На свой вопрос, где пленный, сердобольный Петя Ростов услышал:

Сергей Сухотин – кадет Морского кадетского корпуса. 1902
«– Он там у костра грелся. Эй, Висеня! Висеня! Весенний! – послышались в темноте передающиеся голоса и смех.
– А мальчонок шустрый, – сказал гусар, стоявший подле Пети. – Мы его покормили давеча. Страсть голодный был!» [895]
Таким же незлобивым было отношение к врагу и через столетие – в первые месяцы сражений. К примеру, Рождество 1914 года осталось в мировой истории таким: на Западном фронте были прекращены боевые действия, а английские и германские солдаты обменивались рождественскими поздравлениями. В начале Первой мировой войны и в ходе дальнейших боевых действий военные, относящиеся к враждующим сторонам, не переставали быть людьми единого христианского мира.
Александра Львовна вспоминала о времени своей службы в 187-м санитарном поезде:
«…На перевязочном пункте в Белостоке я перевязывала солдата, раненного в ногу. Веселый был парень, и, хотя нога у него сильно болела, он радовался, что его эвакуируют: „Домой поеду, к жене, ребятам. Они небось соскучились обо мне“. Напротив веселого солдата сидел на стуле немец. Рука перевязана кое-как, бурым потемневшим пятном через марлю просочилась кровь.
– Эй, немчура! – вдруг заорал во все горло веселый солдат. – Не гут, не гут, зачем ты мне, немецкая морда, ногу прострелил? А? – И показывает на рану.
– Jawohl! – соглашается немец, показывая руку. – Und Sie haben mir auch mein Hand durchgeschossen [896].
– Ну ладно, немчура, война, ничего не поделаешь… – точно извиняясь, сказал солдат.
Оба весело и ласково друг другу улыбнулись» [897].
Лев Львович Толстой написал о положении тяжелораненых немцев с глубокой горечью: «Ни одного доктора, один только фельдшер на несколько сот человек. В отдельной небольшой комнатке, человек на восемь безнадежных, несколько человек умирают без всякой помощи. У одного весь живот раскрыт, и никто еще не помог ему» [898].
Михаила Львовича Толстого в эмигрантские годы его жизни разыскал венгерский граф. При этой встрече русский и венгр бросились друг другу в объятия. «Они познакомились, – уточнил сын Михаила Львовича, – при курьезных обстоятельствах. Во время войны на Юго-Западном фронте этот венгерский граф попал в плен к русским. В полдень в палатке был накрыт стол; мой отец нашел вполне естественным пригласить пленного обедать вместе с другими офицерами. За столом они поговорили о военной утренней стычке, нашли много общих знакомых, после этого венгра отправили в плен. Венгерский дворянин никогда не забывал этот благородный поступок и поклялся отплатить долг, разыскал моего отца, которого в тот же вечер пригласил в цыганский ресторан» [899].
Исходная архетипическая оппозиция «свой – чужой» во всех этих историях присутствовала, ибо война есть война. Однако русские, французы, немцы, венгры – все искренне сопереживали друг другу.
И все же первоначальные представления людей, вовлеченных в водоворот военного времени, не могли не претерпевать изменений. В европейском и российском обществе шли разнообразные и сложные процессы. Патриотические настроения начала войны неуклонно угасали, и заметно активизировались антивоенные и антиправительственные, и не только они. В самом начале войны и сын Л. Н. Толстого Лев публично высказался в духе «русской идеи» Ф. М. Достоевского [900]:
«Встает, поднимается русский народ… Хочет стряхнуть с плеч вековое немецкое иго. Идет на смерть за свое великое.
Давно в истории русской не было такого взрыва воодушевления. Что-то надвигается такое, чего мы не ждали от нас самих, чего мы не ждали от Провидения. Каждый день, каждая секунда русской жизни теперь полны глубочайших душевных переживаний, глубочайшего смысла, серьезности и умиления. 〈…〉
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]](/books/1143859/nadezhda-mihnovec-tri-docheri-lva-tolstogo-litres.webp)


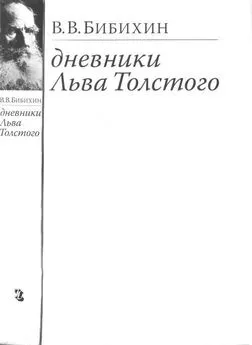


![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)

