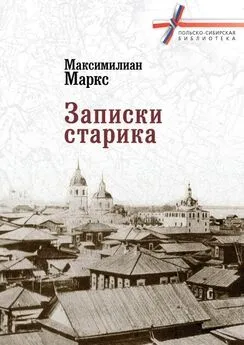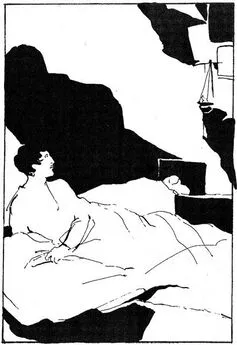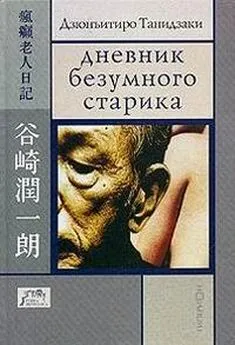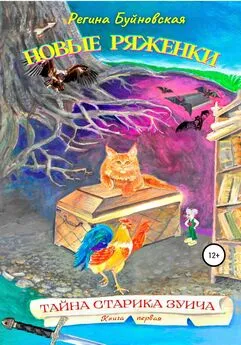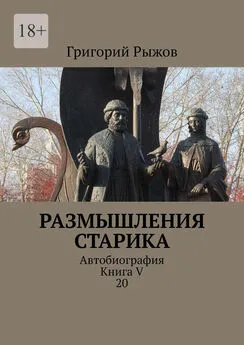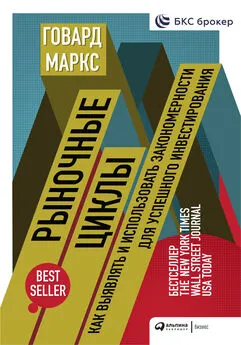Максимилиан Маркс - Записки старика
- Название:Записки старика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2021
- Город:C,анкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-279-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максимилиан Маркс - Записки старика краткое содержание
«Записки старика» представляют интерес для исследования польско-российских отношений. Показательно, что, несмотря на польское происхождение и драматичную судьбу ссыльного, Максимилиан Маркс сумел реализовать свой личный, научный и творческий потенциал в Российской империи.
Текст мемуаров прошел серьезную редакцию и снабжен научным комментарием, расширяющим представления об упомянутых М. Марксом личностях и исторических событиях.
Книга рассчитана на всех интересующихся историей Российской империи, научных сотрудников, преподавателей, студентов и аспирантов.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Записки старика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я радовался одному, что не смотря на приобретенную мною в это время плешь во всю голову, все-таки все сразу узнавали меня. Порядочное число было здесь и с проседью, один или два – совсем седые, плешивых в разных степенях и размерах – много, и несмотря на то, в заключение обеда мы все пропели, или правильнее и справедливее сказать – проревели: «Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!» [252] Начальные слова студенческого гимна: «Возрадуемся, пока мы молоды» (лат.).
, совершенно забывши, что мы никак уже не juvenes…
Генерал-губернатором московским был тогда генерал Тучков, обер-полицейместер, кажется, ген. Потапов, попечителем учебного округа – Н. В. Исаков (потом начальник военно-учебных заведений), инспектором студентов П. Д. Шестаков (впоследствии попечитель Казанского округа) – все это люди и parexcellence [253] Исключительные (франц.).
, каких трудно найти даже днем с фонарем. Казалось, лучшего и желать нечего: обстоятельства общие – выше обстоятельств местных.
Первый визит, сделанный мне, был Райко Ивановичем Жинжифовым с другим болгарином, фамилии которого теперь не упомню. Они не застали меня дома. Их приняла жена моя и просила вечером на другой день без всяких церемоний побывать у нас. На оставленной карточке была надпись «Ксенофонт Иванович Жинжифов».
Болгары, с очень небольшим исключением почти все были стипендиатами университета, получавшего за их содержание и обучение плату то из кабинета Ее и Его Высочеств, то из славянского комитета, состоявшего под высочайшим покровительством. В комитете это числились и были главными орудователями: Погодин, Вельтман [254] Вельтман Александр Фомич (1800–1870) – картограф, переводчик, писатель и журналист. Значительная часть его творчества посвящена истокам Руси.
, Аксаков, Бартенев [255] Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – выдающийся пушкинист, основатель журнала «Русский архив». Был проповедником славянофильства.
, и многие другие, носившие не совсем правильное название славянофилов, потому что одни из них (Погодин) были начисто москволюбцы, а некоторые (Аксаков) и монголюбцы даже. Одного только Вельтмана, автора романа «Светославич – вражий питомец» можно назвать руссо-, или варяголюбцем. Общая славянская идея была им неизвестна, или, по крайней мере, игнорировалась ими. Неопределенность понятий и тенденций вела к разладу, и прежде Аксаков, а потом и Погодин, каждый отдельно перессорились с прочими.
На другой день Жинжифов с товарищем явился в назначенный час и отрекомендовался мне именем Райко, т. е. тем, которым он подписывался в письмах ко мне, в бытность мою в Смоленске. Я невольно спросил, почему же братец его, Ксенофонт Иванович, посетивший меня вчера, не соблаговолил прийти вместе с ним.
– У меня нет никакого брата, и это карточка моя, – ответил он с каким-то смущением.
– Да, ведь вы – Райко Иванович?
– Точно так, но все-таки я должен зваться и подписываться ненавистным мне греческим именем Ксенофонт. Только между своими я Райко.
Я стал в тупик, но дело объяснилось вот чем. В церковных русских святцах нет имени Райко, и на этом основании славянин Райко по настоятельному требованию должен был официально фигурировать под греческим именем Ксенофонта.
В этот же вечер я узнал Жинжифова вполне. Он был со мною откровенен. Идеалами его, как истого народника были: равенство прав, вече – рада – сейм – скупчина [256] Скупщина – название парламента в некоторых балканских странах.
с общею подачею голосов. Болгарию свою любил он всею душою, любил ее загнанный народ и готов был за него пожертвовать не одною только своею собственною жизнью. К туркам питал более презрение, нежели ненависть, но фанариотов готов был хотя бы до последнего всех перевешать. После, именно по случаю бегства Лангевича [257] Лангевич Мариан (1827–1887), польский генерал, участник Январского восстания 1863–1864 гг. в Польше.
за границу, я слышал от него слова:
– Дельно полякам! За что они не послушали Мерославского [258] Мерославский Людвик (1814–1878), участник Ноябрьского восстания в Польше 1830–1831 гг. После поражения восстания пребывал в эмиграции во Франции, где активно участвовал в жизни польской эмиграции. Автор работы по истории Ноябрьского восстания. Участник революционных событий 1848 г. В феврале 1863 г. прибыл в Царство Польское, где возглавил партизанские войска на Куявах. Центральный Комитет назначил Мерославского диктатором и предводителем восстания. Однако он не выиграл ни одной битвы и считается «генералом проигранных битв».
и не перевешали панов своих угнетателей.
Тут, кажется, не нужны никакие комментарии.
И странную комедию сыграла судьба с этим человеком: он умер, не дождавшись освобождения своего отечества, и умер Ксенофонтом и преподавателем греческого (!) языка.
Чрез несколько дней я обещал быть в собрании болгар.
Там было около 20 молодых людей, встретивших меня очень радушно (что мне бесконечно понравилось) и почтительно (что меня вводило в какое-то неловкое положение). Вскоре однако же я сумел приобрести общее дружеское расположение всех присутствующих. Мне очень понравилось, что они между собою непременно говорили по-болгарски, и только с одним мною, в виде исключения, должны были объясняться по-русски. Жинжифов тут же прочел свое новое стихотворение, и оно понравилось всем. Меня расспрашивали о болгарах смоленских, о Рачинском, и очень возмущались поступком Динькова на железной дороге.
– Погерченец! – было окончательным решением одного, по-видимому, старшего как летами, так и значением, болгарина.
– Погерченец! – повторил за ним весь наличный хор.
Был тут один серб и один черногорец. Серба нельзя было отличить от прочих, но черногорец поразил меня и своим телосложением и физиономиею. Атлет с сильно откинутым назад челом, горбоносый, с сильно выдавшимися вперед бровными дугами, черноволосый и черноглазый, с длинными висячими усами и торчащим между ними выбритым подбородком, он показался мне вышедшим из рам, в галереях старопольских домов, каким-нибудь Жолкевским, Кмитою, Замойским и пр. Удивительное сходство! И когда бы подбрить ему голову, оставить только на макушке чупрыну, то, верно, в каком-нибудь доме нашелся бы самый сходный портрет виденного мною сына Черной Горы.
Пропели несколько народных песен. Мне понравился марш, смахивающий несколько на марсельезу. Угощение. Как и следовало, состояло из чаю и табаку. Разошлись мы по домам уже за полночь.
Не более как через неделю, явилась к моей жене молодая, не более 16 лет, болгарочка. Она привезла с собою для передачи мне «Болгарский сборник», только что вышедший тогда в Москве. Книжечка была в изящном переплете и с надписью «от московских болгар». При первом свидании с женою девушка хотела поцеловать у нее руку, как момке . Это ей не удалось. Жена обняла ее и сперва поцеловала в голову, а потом в щечку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: