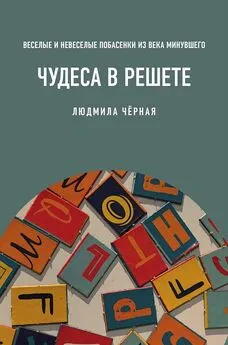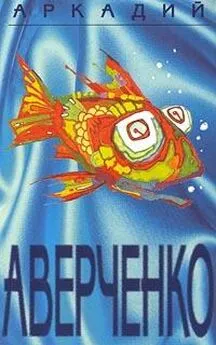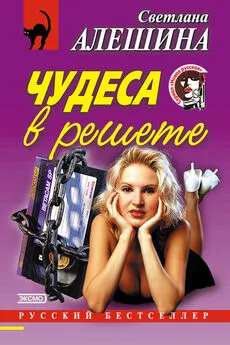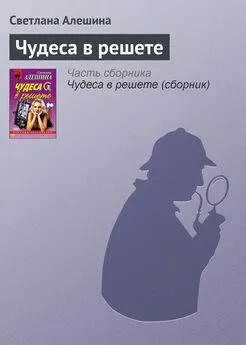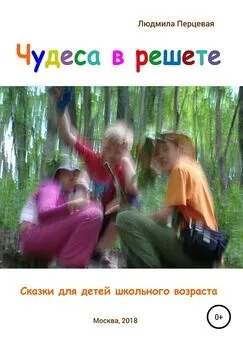Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Название:Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1650-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего краткое содержание
«Теперь мне 103. Вышли в свет две мои толстые книги. Пишу третью, хотя не уверена, допишу ли. Когда работаю, рука не дрожит. А когда раз в три месяца помощница Лена привозит меня в Сбербанк и надо расписаться за пенсию, руки начинают дрожать… Чудеса…»
Возможно, разгадка удивительной душевной молодости Людмилы Чёрной — в ее захваченности, очарованности жизнью и в самодисциплине. Высказываемые в книге суждения и оценки порой звучат вызывающе остро — тем интереснее знакомиться с образом мыслей автора и ее восприятием текущих событий. Перед нами не только свидетельство ровесницы «короткого XX века», но и, по выражению Н. С. Лескова, феномен «уходящей натуры».
Людмила Чёрная (р. 1917) работала журналисткой-международницей, переводила художественную литературу (Г. Бёлль, Э. М. Ремарк, А. Дёблин, Ф. Дюрренматт). Вместе с мужем, историком Д. Е. Меламидом, исследовала нацистский режим в Германии и написала книгу о Гитлере «Преступник номер 1». Издала в «НЛО» книгу мемуаров «Косой дождь» (2015) и публицистический сборник «Записки Обыкновенной Говорящей Лошади» (2018).
Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дети — Андрюша и Даня — все это время находились у матери невестки. Иногда, впрочем, Даня ночевал у нас — детская кроватка всегда стояла в спальне на ул. Дм. Ульянова.
Последнюю ночь в Москве трехлетний красавец и умница Даня провел с нами. Помню от слова до слова его детский лепет перед сном, но не стану воспроизводить его на бумаге — щажу свое больное сердце.
Навсегда запомнила я и день отъезда сына в эмиграцию. Поразила меня в тот день грубость работников Шереметьево-2 — видимо, тех, кого мы теперь именуем силовиками, а тогда называли из органов. Поразило особенно, потому что, когда я в 1960-е встречала в том же Шереметьево-2 немецких писателей из капстран, те же «силовики» были идеально вежливы.
И еще одно было странно и непривычно: Алика провожала толпа незнакомых мне и Д. Е. молодых людей. То и дело полумрак зала освещали вспышки фотоаппаратов (через несколько дней нам домой принесли целую кипу снимков: но в толпе лишь изредка мелькали знакомые лица — ученики Алика, ученики Кати).
Мы, маленькая кучка ближайших родственников, были как бы сбоку припека. Никто из нашей родни и друзей, конечно, не пришел, не явились и родные невестки — только ее мама Нина Александровна, да еще брат Дима Арнольд, гениальный математик. Помню, он спрашивал меня: «Они и правда занимаются чем-то новым? Может, я должен был Кате больше помогать?» (Замечу в скобках: несмотря на то что я была тогда как бы в ступоре, слова Арнольда меня поразили. Впервые я поняла, что вся семья Арнольдов фактически на иждивении Димы.)
Но самое главное, что я только много лет спустя осознала: толпа провожающих прощалась не с Аликом, а с художником-нонконформистом Меламидом. Для них Алик был не просто бунтарь, а выразитель дум и помыслов части советской молодежи.
Но вот все кончилось. Правда, и Комар — он уехал позже, — и ученики Алика приходили к нам каждый раз, когда Алик звонил еще с дороги.
Первым, кто из нас двоих что называется опомнился, был Д. Е. Он теперь выходил из дома только в свой институт и, как ни странно, занялся домашними делами. Начал активно обустраивать нашу неуютную, неотремонтированную, полученную в результате обмена для семьи Алика квартиру. Причем действовал Д. Е. куда более умно, нежели действовала бы я. Сразу отправился вместе со мной к районному начальнику по ремонтам и молча положил ему на стол какую-то купюру (какую именно, я, конечно, не помню). После чего начальник дал нам лучшего мастера, чтобы тот привел в порядок «места общего пользования» — так назывались в ту пору сортир и ванная комната.
Лучший мастер, молоденький паренек (кажется, ему минуло всего 22 года и за свою отличную работу он получил отдельную квартиру) был трудоспособен только с восьми утра до часа дня. После 13:00 он уходил на обеденный перерыв и возвращался в дымину пьяный. Никакие мои уговоры, никакие обещания накормить паренька хорошим обедом и даже поставить на стол поллитра не помогали. Парень — золотые руки уходил и приходил совершенно нетрудоспособным — можно представить себе, что ждало через несколько лет его жену и двоих детишек!
Однако прежде, чем вернуться к моей теме, рассказу о жизни Д. Е. после отъезда сына. Должна признать: двадцать лет капитализма, пусть «российского капитализма», не прошли даром. Люди научились работать. Когда изредка моя помощница, а теперь и сиделка Лена вызывает мастера, к нам приходит молодой человек новой формации и, ни слова не говоря, делает свое дело. И тут я понимаю, что двадцать путинских лет дали свои плоды — таких молодых мастеров прежде я видела только в Германии.
Однако вернусь к тем далеким 1980-м, трудным и печальным годам нашей жизни с Д.Е. без Алика. К сожалению, я никак не могу вспомнить, в какой именно роковой год Д. Е. сразила неизлечимая болезнь — инсульт, а вслед за ним серия точечных инсультов. Тем самым не знаю точно, сколько лет он проболел.
Зато помню отчетливо все, что случилось в первый день его хвори. Я тогда собиралась ехать в литфонд за путевками для нас в Дом творчества в Дубултах, а Д. Е. с утра ушел в институт. Как вдруг раздался звонок в дверь, и я увидела на пороге одного из сотрудников ИМЭМО, а за его спиной самого Д. Е., который почему-то норовил уйти от нашей входной двери на противоположный конец длинной лестничной площадки. Помню, что после того, как я уложила Д. Е. на зеленый диван в кабинете, он, путая слова, пытался понять, что с ним случилось: почему он дома, а не на работе, что вообще с ним происходит.
Помню, что и я в то утро старалась собраться с мыслями и решить, как мне себя вести: по возможности остаться в стороне от болезни мужа, предоставив его судьбу медикам, а вернее, советской медицине, а самой жить дальше, как жила прежде? Или же приковать себя, здоровую, к Д. Е., больному, — и, соответственно, считать свою жизнь неотделимой от его жизни.
Разумеется, я формулировала все это как-то иначе, но помню, что понимала тогда: выбор у меня есть, я могу устроить свое будущее по двум разным сценариям.
Да, выбор у меня был — и я его сделала. Когда приехала скорая из больницы Академии наук, сказала, что поеду вместе с больным. А в больнице выпросила для Д. Е. отдельную палату, пусть хотя бы на одну ночь. Рано утром я уже была в больнице, успела как раз к тому часу, когда Д. Е. пытались переложить в общую палату. Что это значило для нас? Это значило, что в общей мужской палате я не смогу долго оставаться, а я решила быть с больным мужем неотлучно и нахально заявила, что раз Д. Е. не положено отдельной палаты, то я забираю его домой — мол, у нас в стране нет принудительного лечения. И врачи растерялись: выписать больного они не имели права, а отдельная палата-комнатушка, где он ночевал, была уже обещана умирающей женщине, за которой брались ухаживать родные.
Да, врачи не знали, как им поступить, не знали, и какие у меня права, — и при том никому не хотелось обращаться за помощью и разъяснениями ни к академическому начальству, ни в городские лечебные структуры. Черт его знает, как это обернется и что из этого получится! Все боялись публичных разбирательств, шума, громких заявлений, упаси бог, скандала.
Словом, мне уступили — Д. Е. дали отдельную палату-комнатушку, и я могла сидеть с мужем с раннего утра до позднего вечера. Так и сидела. Когда все уходили, брала из раздевалки пальто или шубу, а поздно вечером, уже через черный ход, брела домой по огромному пустырю — академическую больницу построили в овраге. Шла мимо морга, по лестницам поднималась на людную улицу — и так изо дня в день… Но не жаловалась — ведь это был мой сознательный выбор.
Только когда Д. Е. клали в реанимацию, меня к нему не пускали, и тогда он не мог уснуть, кричал: «Люся, Люся!» — звал меня.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: